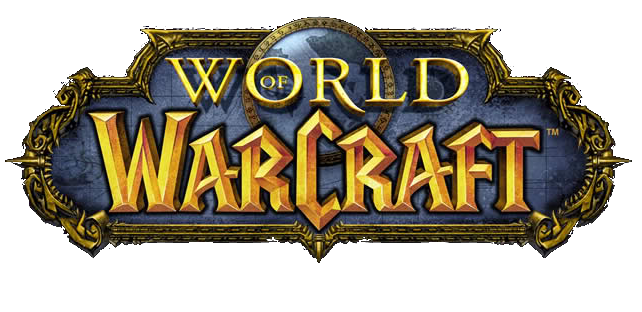ЖРЕЦ — Что такое ЖРЕЦ?
Слово состоит из 4 букв: первая ж, вторая р, третья е, последняя ц,
Слово жрец английскими буквами(транслитом) — zhrets
Значения слова жрец. Что такое жрец?
Жрецы
Жрецы (евр. комарин) 4 Цар. 23:5, которых Иосия уволил со службы. Это же еврейское слово приведено у Соф. 1:4 и у Ос. 10:6; соответствующее ему сирийское слово «кумра» — служит общим названием священников, но, так как идолопоклонство в Палестине…
Библейский энциклопедический словарь. — 1868
Жречество
ЖРЕЦ — носитель эзотерических знаний и исполнитель ритуалов. В эпоху дорелигиозных магических представлений жрец выступает в качестве знахаря, шамана.
В дальнейшем становится посредником между людьми и богами. Символы, знаки, эмблемы. — 2005
Жрецы (одного корна со словом жертва, см.) — посредники между богами и людьми. При культе предков не было надобности в содействии Ж.: каждый глава семьи (или родоначальник) являлся жрецом этого культа, возносил молитвы…
Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона. — 1890-1907
Жрец, по представлениям первобытных народов посредник между богами и людьми. Первоначально каждый глава семьи возносил молитвы и совершал возлияния и приношения домашним богам предкам…
Брокгауз и Ефрон. — 1907—1909
Салии жрецы
Салии жрецы (Salii — плясуны) — древнеримские жрецы бога Марса, разделявшиеся на две коллегии по 12 человек в каждой — Salii Palatini и Salii Collini, или Agonales, или Agonenses (по имени Квиринальского холма — Collis, или Agonius Collis).
Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона. — 1890-1907
Совет жрецов Абхазии
Совет жрецов Абхазии — абхазское религиозное объединение язычников в состав которого входят жрецы семи абхазских святилищ — «Абжьныха». Совет жрецов Абхазии существовал ранее, но прекратил своё существование в период Советской власти.
ru.wikipedia.org
Галлы (жрецы)
Галлы (жрецы) (Galli) — оскопленные жрецы Кибелы. Культ азиатской Кибелы, почитавшейся особенно в Галатии в г. Пессинунте, где находилось ее святилище и хранилось упавшее, по преданно, с неба ее изображение, мало-помалу смешался в Риме с культом Реи…
Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона. — 1890-1907
Архелай жрец
Архелай жрец — сын полководца А., в 63 г. до Р. Х. возведен Помпеем в звание жреца в понтийском городе Комане. В 56 году A., считавшийся сыном Митридата, женился на Веронике, дочери царя Птоломея Аулета…
Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона. — 1890-1907
Богомил (жрец)
Богоми́л (Богуми́л), прозванный за своё сладкоречие Соловьём. Этим именем в иоакимовской летописи, приведённой в «Истории Российской» Татищевым, назван в сказании о введении христианства в Новгороде жрец…
ru.wikipedia.org
Богомил (Богумил), прозванный за свое сладкоречие Соловьем. — Этим именем в так называемой иоакимовской летописи, известной только Татищеву, назван в сказании о введении христианства в В. Новгороде жрец, который вместе с тысяцким Угоняем возмущал…
Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона. — 1890-1907
Верховный жрец Амона
Верховный жрец Амона — высший титул среди жрецов древнеегипетского бога Амона. Институт верховных жрецов Амона возник во времена XVIII династии, однако, наибольшего могущества жречество достигло во время Третьего переходного периода.
ru.wikipedia.org
Верховный жрец Атона
Верховный жрец Атона (более правильно «Великий (среди) видящих солнечный диск Атона в доме (храме) Солнца в Ахетатоне») — высшая должность в монотеистическом солярном культе Атона в Древнем Египте амарнского периода.
ru.wikipedia.org
Верховный жрец Птаха
Верховный жрец бога Птаха (Пта) — высший титул среди жрецов древнеегипетского бога Птаха. Резиденция жрецов Птаха находилась в городе Мемфисе. Должность великого жреца бога Птаха обозначалась иероглифами: или сокращённо…
ru.wikipedia.org
Русский язык
Жр/ец/.
Морфемно-орфографический словарь. — 2002
Примеры употребления слова жрец
Жрец либерализма Гозман совершил акт ритуального вандализма.
Идет жрец омона!, детектив попробовал возвратить кассирову со жарких брегов старого нила в прозаичную кислоярскую реальность: госпожа кассирова, будьте разлюбезны, поведайте, как все это случилось.
- жребий
- жрецов
- жрецом
- жрец
- жреческий
- жречество
- жрица
Что такое Жрец, определение термина в Словарь Ожегова
жрица, человек, Египет, бог, мужчина, жертва, храм, любовь, служитель, жертвоприношение, мудрец, обряд, древность, монах, вера, жрать, история, древний, культ, Греция, еда, шаман, молиться, фараон, люди, религия, алтарь, идол, поклоняться, священник, жрецы, колдун, поклонение, приношение, церковь, Рим, богиня, дар, кровь, мудрый, нож, племя, ритуал, оракул, мудрость, божество,
А. И. Первушин, Оккультный Сталин
Именно там, за пределами мира, находилась причина устроенного жрецами храма жертвоприношения.Сергей Сироткин, Путь. Книга 2, 2015
Первыми людьми, носящими парик, были египетские жрецы.Аурика Луковкина, Как стать парикмахером
Это было великой тайной жрецов, недоступной простым смертным.А. М. Волков, След за кормой, 1960
Это в свою очередь привело к тому, что жрецы людских богов стали третировать полукровок.Георгий Лопатин, Божественный уровень, 2015
Словно сквозь туман доносились до него звуки гимна смерти; его глаза были устремлены на маленькие золотые чаши в руках жрецов и жриц.Э. Р. Берроуз, Тарзан и сокровища Опара, 1916
Теперь старый жрец спрятал лезвие в ножны и протянул помощнику, который вновь уложил меч в деревянный посох.Ф. Т. Саберхаген, Третья книга мечей
Почему же тогда многие из высших жрецов майя носили маски?И. С. Прокопенко, Тайны древних цивилизаций, 2015
На следующее утро ко мне явилась делегация младших жрецов.А. Г. Меррит, Обитатели миража, 1932
А всё потому как она вела к площади, где на одной его стороне стояло капище, а на обратной дворцы старшего жреца и боляринов, называемые детинец.Е. А. Асеева, Коло Жизни. Бесперечь. Том первый
Кто-то из прихожан шелестит страницами сборников, отыскивая нужные гимны, жрец тихо говорит что-то на соседней скамье.Элли Конди, Атлантия, 2014
Только когда прошли первые восторги, на голову старого жреца так и посыпались проклятия, причём в этом никто из норманнов не уступал друг другу.А. И. Красницкий, Рюрик-викинг (сборник), 2014
Со своих подданных требовала она голосами жрецов подобные ей камни.Руслан Старцев, Тайны драгоценных камней
Поэтому в храме всегда курился ладан; своё слово жрец произносил медленно, глубоким, но чистым драматическим голосом.Сборник статей, Тайны древних цивилизаций. Том 1, 2011
Волхвы — языческие жрецы (в славянской мифологии).Н. В. Симонова, Словарь церковных терминов и понятий. Приложение к учебному пособию «Христианская Церковь в Высокое Средневековье», 2012
Эти слова, завершившие беседу, жрец произнёс с бесконечной нежностью, но твёрдо и непреклонно.Х. А. Ливрага, Анкор. Последний принц Атлантиды, 2006
А лицо старого жреца меж тем страшно исказилось.Е. А. Неволина, Секира Перуна, 2012
В касте жрецов особую прослойку составляли бару (гадатели), услугами которых пользовались высокопоставленные чиновники, элита общества и простые люди.С. П. Кашин, Чудо-целитель вода. Лечение, укрепление, омоложение, 2014
На его достижения в военном деле и дальнейшие победы в воинских состязаниях стали обращать внимание не только главы общин, но и местные жрецы.Олег Радмиров, Древние искатели правды. Путь к истокам
Она таинственно поводила бровями и незаметно кивнула на жреца стоящего на коленях и всё ещё молящегося.Ирина Зиненко, Дар леса
Он зевнул и уселся на низком стуле. Лицо чёрного жреца стало ещё мрачнее.А. Г. Меррит, Корабль Иштар, 1924
Такие плащи, носили странствующие жрецы богини, имя которой нельзя было произносить вслух, и её именовали не иначе как матушка.Елена Мариныч, Другая реальность
Их культом руководил жрец, одетый в женскую одежду.В. Я. Петрухин, Мифы древней Скандинавии, 2012
Ты продолжаешь оставаться жрецом старых богов?Энн Райс, Кровь и золото, 2001
С другой стороны, возможно, кто-нибудь из жрецов сделал это против воли правителя, по злому умыслу.Рик Риордан, Тень змея, 2012
И в ту же секунду из темноты выскочило что-то ещё более тёмное, словно сгусток мрака, и набросилось на молодого жреца.Н. Н. Александрова, Проклятие Осириса, 2007
Узнав, что землеройную машину он создать не сможет, жрец отрицательно покачал головой, и монстры получили новую порцию лакомства.Артем Каменистый, Сердце Мира, 2006
Не хорошо раньше времени ложиться, — и жрец скупо улыбнулся мне в глаза.С. В. Пилипенко, Амплуа Нефертити
Высшая варна, брахманы, занимали высокое положение жрецов, хранителей древних знаний в обществе.А. М. Буровский, Арийская Русь. Ложь и правда о «высшей расе», 2012
Один из жрецов подошёл к девочке и лёгким движением кисти бросил ей в лицо какой-то порошок.Сергей Сироткин, Путь. Книга 2, 2015
Так уж устроена наша действительность, что не всегда жрецы науки движутся в правильном направлении.А. А. Абрашкин, Древнейшие цивилизации Русской равнины. Русь старше ариев, 2016
И тогда появились жрецы с очень дальнего звёздного мира.Михаил Темнов, Сады Хаоса. Книга 2. Пески забвения, 2012
По совету жреца литовский князь заложил на этом месте свою столицу.Г. М. Левицкий, Великое княжество Литовское, 2014
Увидел, как барабанщик нагнулся поднял тело жреца со сломанной шеей и одним движением длинной руки бросил его за борт.А. Г. Меррит, Корабль Иштар, 1924
В некоторых арийских племенах были жрецы, сочинившие огромное количество священных гимнов для исполнения во время религиозных обрядов.Майкл Эдвардс, Древняя Индия. Быт, религия, культура
Он спокойно встретил взгляд жреца, улыбнулся.А. Г. Меррит, Корабль Иштар, 1924
Старый жрец приказал выйти всем служителям храма, и, уходя, они слышали, как он бормотал молитву.Г. Р. Хаггард, Скиталец, 1890
Однако чтобы сохранённый жрецами санскрит оказался молочным братом латыни и наречия эллинов, это кажется невероятным.А. Е. Виноградов, Русская тайна. Откуда пришел князь Рюрик?, 2013
Ну что возьмёшь со жрецов? По большому счёту они во всём оказались правы. Вот только до их правды уж очень трудно докопаться…Е. А. Коровина, Великие пророчества. 100 предсказаний, изменивших ход истории, 2011
Что же хотел сказать жрец?Татьяна Форш, Предсказанный враг, 2009
Выборные вожди — шофеты («судьи») — являлись верховными жрецами, командовали племенными ополчениями, а в мирное время разбирали тяжбы.В. О. Никишин, История древнего мира. Восток, Греция, Рим, 2010
Хотя бы потому, что жрец с помощниками неотступно наблюдали за помеченными.Г. В. Манукян, Дикторат, 2016
Такой орнамент использовался для украшения храмов и одеждах жрецов и фараонов.Н. Н. Цветкова, История текстильного искусства и костюма. Древний мир. Учебное пособие, 2010
Честно говоря, клятву, данную тёмному жрецу, я бы нарушил.Роман Афанасьев, Огнерожденный, 2005
Однако, там же, при дворе царя существовала группа сановных жрецов — так называемых эфоров — наделённых полномочиями по их толкованию.Твоя Новая Вера, Optima
Однако эта неточность не помешала вавилонским жрецам делить каждый месяц на четыре семидневные недели.В. Г. Турчанинова, Циклы, протекающие в пространстве и во времени, 2015
Но ещё древние астрологи, маги и жрецы заметили, что лунные дни, восходы и заходы влияют на жизнь людей и определяют смену самочувствия и настроения.Н. А. Судьина, 365 золотых советов на каждый день. Жизнь по лунному календарю, 2008
В прямые обязанности жрецов входило три раза в день осуществлять публичные ритуалы.С. В. Гордеев, Древняя магия и современные религии, 2015
Кто такие жрецы в Древнем Египте?
В Древнем Египте, как и в других древних цивилизациях, служители богов – жрецы – занимали очень высокое положение в социальной иерархии. Древнеегипетская религия представляла собой сложную, разветвленную систему божеств, духов, мифов.
Огромное значение уделялось жизни после смерти, отношениям живущих и покойных. Закономерно, что жрецы играли такую значимую роль и обладали большой властью, сопоставимой с властью самих фараонов.
О том, как функционировало жречество в Древнем Египте, мы знаем по сохранившимся архитектурным памятникам и свидетельствам античных авторов. Жрецы отличались следующими признаками:
— служение богам было их основным занятием, «профессией». Чтобы стать жрецом, молодой человек должен был долго учиться. Эта учеба начиналась в раннем детстве и заканчивалась не раньше 20-ти лет;
— жречество не было отдельной социальной прослойкой, как духовенство в Средневековье. Жрецы состояли на государственной службе, выполняли и религиозные, и общественные, и культурные обязанности;
— за свою работу жрецы получали деньги. Это было почетно и выгодно, поэтому жреческий титул передавался по наследству;
— жрецы имели большое влияние, пользовались почетом и уважением. Их связь с божествами воспринималась простыми людьми как мистическая.
Чем занимались жрецы Древнего Египта?
Основной заботой жрецов была служба в храмах. Они проводили обряды и церемонии, молились, читали священные тексты. Но, помимо собственно культовых, у жрецов были и другие обязанности. В частности – ведение храмового хозяйства, охрана храма, содержание библиотеки, врачевание, подготовка умерших к погребению и т.д.
Все египетские жрецы имели свою «специализацию». Жрец, отвечающий за богослужение, пел молитвы и проповедовал верующим. Жрец, ответственный за священные папирусы, переписывал их и следил за состоянием библиотеки. Были жрецы, наводившие чистоту в храме, жрецы-архитекторы (строители пирамид) и другие жреческие квалификации.
В древнеегипетском пантеоне было много богов, и жрецы делились на группы (клиры), посвященные тому или иному божеству. Положение этих сообществ зависело от того, какое место занимает их небесный покровитель в божественной иерархии. Чем значимее бог, тем больше авторитет жрецов, входящих в клир.
Египтяне верили, что в жрецах живет «Божественная сила», и что она может оказывать воздействие на людей, их дела, здоровье, потомство. В системе древнеегипетского мировоззрения большое место уделялось связи мертвых и живых. А проводниками из одного мира в другой становились жрецы. Именно жрецы занимались мумифицированием покойных и их погребением. Правильная подготовка обеспечивала достойное продолжение жизни после смерти, поэтому этим могли заниматься только просвещенные.
Жрецы – администраторы, ученые, врачи
Жрецы активно участвовали в различных областях жизни общества. Их функции не ограничивались религиозным культом. При храмах решались важные правовые и житейские проблемы. Помощники жрецов вершили суд, разрешали споры, давали советы.
Жрецы были хорошо образованы и наблюдательны. Это позволяло им постигать природу, делать выводы, изобретать. Мумификация тел способствовала тому, что жрецы изучали строение человеческого организма, хорошо знали анатомию. Они же лечили людей, пользуясь знаниями о теле человека, болезнях, свойствах веществ. Это не мешало им использовать в лечении свои «мистические способности», призывать на помощь богов, изгонять злобных духов.
В поздние периоды развития Древнего Египта жрецы стали заниматься астрологией. Наблюдая за небесными телами, они приписывали им сверхъестественные свойства. Но попутно получали астрономические знания, сохраняли их в своих текстах и передавали последующим поколениям. Таким образом, собиралась ценнейшая информация, используя которую, жрецы могли рассчитать время разлива Нила и распланировать сельскохозяйственные работы.
Современные историки сходятся на том, что жрецы оказали влияние не только на религиозную жизнь, но и на социальные институты, культуру, политику и науку Древнего Египта.
жрецы – Weekend – Коммерсантъ
У иудеев, христиан и мусульман Бог один и тот же — разногласия возникают в протоколах общения с Ним. Первым Он открылся евреям, и из-за этого их Храм в Иерусалиме имеет принципиальное значение для трех авраамических религий. В особенности — факт разрушения этого храма.
Великий раввин Моисей Маймонид говорит о Храме, что «Следующие вещи являются главными при постройке Храма: делают в нем Кодеш (Святилище) и Кодеш а-Кодашим (Святое Святых), и перед Святилищем должно быть помещение, которое называется Улам; и все вместе называется Хейхал. И возводят ограду вокруг Хейхала, на расстоянии не меньшем, чем то, что было в Скинии; и все, что внутри этой ограды, называется Азара (двор). Все же вместе называется Храм» (Маймонид, Мишне Тора, Законы Храма, 1:5).
Кодеш а-Кодашим — это место земного присутствия Бога. Сила Божья (Шехина) физически пребывала там. В 70 году Храм был уничтожен войсками Тита Флавия. Место земного пребывания Бога исчезло. Последствия не сразу были всеми осознаны, но со временем три религии сделали свои выводы из этого ужасного события.
Иудаизм — древнейшая авраамическая религия, однако та религия, которую мы называем иудаизмом сегодня, родилась из разрушения Храма. Это радикальнейшее переосмысление ветхозаветной религии, которое произошло позже явления Христа. Вывод, который сделали из разрушения иудеи, заключается в отказе от храма. После разрушения в физической реальности Бога нет, и пока Храм не восстановится, не будет. Единственная связь — через текст, Книгу. Текст становится магическим предметом — отсюда сакральное значение свитков Торы, мезуза (пергамент с текстом молитвы у входа в дом), тфилин (коробочки, содержащие пергаменты с отрывками из Торы, которые являются элементом молитвенного облачения), записки, которые вкладываются в Стену плача (хотя это — совсем поздняя традиция).
Синагога представляет собой модификацию храма без помещения, где пребывает Бог. Остальные части — и молитвенный зал, и притвор, и двор — имеются, а этого места — нет. Без него храм превращается из сакрального в общественное помещение.
Примерно в тот момент, в 70 году, когда войска Тита уничтожали Иерусалим, апостол Иоанн находился в ссылке на острове Патмос. Там ему открылась картина еще более ужасных разрушений, описание которой составило Апокалипсис. Но, помимо бедствий, он увидел и Небесный Иерусалим, где пребывает Господь в конце времен.
«И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба Он имеет славу Божию Он имеет большую и высокую стену, имеет двенадцать ворот Улица города — чистое золото, как прозрачное стекло. И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божия осветила его…» (Откр. 21)
Христиане согласились с тем, что Бог пребывает на небесах, в Небесном Иерусалиме. Но небеса открываются и их можно узреть (а в конце времен увидят все). Соответственно, христианский храм представляет собой модификацию ветхозаветного, только вместо Святого Святых в алтаре начинается путь на небеса. В самом простом варианте — от Богоматери, находящейся в конхе апсиды, наверх, к куполу, где находится Христос.
Принципиальная схема мечети включает в себя двор, притвор, молитвенный зал — и все. Помещение, где пребывает слава Божия, отсутствует, как и в синагоге. Однако на стене молитвенного зала находится михраб, он обозначает киблу — направление, путь в Мекку, к Каабе. Это прямоугольное строение во дворе мечети аль-Харам, построенное Ибрахимом (Авраамом) непосредственно под руководством Бога. В основании — краеугольный камень, который передал Адаму архангел Гавриил, и над которым Адам соорудил полог, создав прообраз храма. Это, так сказать, Святая святых всех мечетей. В исламе получается множество молитвенных залов, соединенных с единственным пространством, где пребывает слава Божия. Но это помещение есть, и оно есть на земле, в физическом пространстве. Через него идет прямой путь к раю («Ключи от Рая» — один из эпитетов Каабы).
Это — три приспособления для того, чтобы связываться с Богом. Все три авраамические религии — сугубо городские, так что устройство этих пространственных девайсов определяет организацию сакральности в городе.
В 1970-е годы, в эпоху «деревенщиков», модно было заниматься семиотикой народного жилища — славянского, бурятского, монгольского, калмыцкого и т. д. Знаки там повсюду — от конька кровли до красного угла. Коромысла, прялки, веялки — все символично, высшие силы на каждом шагу. Можно составлять бесконечные словари символов. В несколько полемическом разрезе к такому тезаурусному символизму Иосиф Бродский написал:
«В деревне Бог живет не по углам, / как думают насмешники, а всюду. / Он освящает кровлю и посуду / и честно двери делит пополам. / В деревне Он — в избытке. В чугуне / он варит по субботам чечевицу, / приплясывает сонно на огне, / подмигивает мне, как очевидцу».
Это достаточно архаическое представление о единстве мира Божьего и физического мира. Бог присутствует повсюду, связи с ним непосредственны, устойчивы и понятны. Невольно объединяясь с «насмешниками», я бы сказал, что в эту деревню не только не дошла страшная весть о разрушении храма, но здесь даже не вполне осведомлены о начале его строительства. Любой предмет, помещение, пища, огонь божественны в самом простом смысле — магичны. В них присутствует сила Бога, Шехина, которая не только не улетела в Град Небесный, но даже не выбрала себе определенную комнату для пребывания.
Но это бесконечно далеко от городского пространства. В городе существует единственная связь — через храм, и работает она плохо по сравнению с вот этим «подмигивает мне как очевидцу». Связь носит символический характер.
Среди специалистов по сакральной архитектуре нет более болезненной темы, чем символ. Шариф Шукуров, скажем, замечательнейший, на мой взгляд, современный исследователь исламской архитектуры, показывает, как семантика мечети восходит к первоначальной мечети Пророка в Медине, его дому, но вместе с тем — к Храму в Иерусалиме, но вместе с тем к раю как граду и раю как саду. Но при этом Шукуров постоянно подчеркивает, что это ни в коем случае не символы дома, храма и рая, а как бы они сами в прообразовательном смысле (то есть не символизирует рай, а им и является, отсылая однако же и к раю на небесах). Это трудно понять.
Ганс Зедльмайр, величайший историк искусства ХХ века, которому принадлежит самый глубокий анализ готической архитектуры, показывает, как готический собор связан с образом Небесного Иерусалима у Иоанна, и вот это «стена из ясписа, чистое золото, подобное чистому стеклу» — это стены храма, превратившиеся в витражи, прозрачные драгоценные каменья. Однако же он специально и настойчиво подчеркивает, что это никак не символы Града Небесного, но в некотором смысле его отпечатки, отображения (Abbild). «Этот «отобразительный» смысл, в отличие от символики обладает формообразующей силой Гештальт этих построек — рассмотренный чисто архитектонически — обладает чем-то фантастическим, иррациональным». Это тоже трудно понять.
Храм как устройство — это парадоксальный феномен незнакового обозначения. Я понимаю, насколько дико это звучит в семиотических терминах, но вряд ли уместно здесь излагать теорию знаков и пытаться вписать в нее такой тип значений. Тем не менее скажу, что:
— в обычных знаковых системах то, как знак выглядит, не связано с тем, что он значит. В сакральной архитектуре, напротив, форма является отображением смысла, метафорой смысла, интерпретирует смысл — всячески стремится явить собой смысл; она не может не иметь связи со смыслом;
— символы нельзя читать, и сама попытка так с ними поступать есть поведение предосудительное; понимание смысла символа — не автоматический процесс, сравнимый с чтением знаков какого-либо кода; столкнувшись с символом, человек может его не понять вообще, понять частично; понимание символа во всей его глубине и полноте — это вообще таинство;
— смысл символа носит размытый характер; это скорее семантическое поле, чем определенное значение; мечеть отсылает к Храму, Храм к Скинии, Скиния к Каабе, Кааба к Раю, Рай к Саду, Сад к Небесному Иерусалиму и т.д.
Это, прямо скажем, довольно-таки несовершенная семиотическая система, если считать, что ее целью является что-нибудь кому-нибудь сообщить. Мне кажется, понять символ можно в перспективе разрушения Храма, о которой я рассказывал. Храм содержал в себе силу Бога и находился в нашем физическом пространстве. Это был магический объект. Он разрушен, Бог эмигрировал на небеса. Символ — это попытка преодолеть разрушение храма. Символ — это волшебная палочка, разломанная на означающее и означаемое. Он может отказаться символизировать, не сработать. Его понимание требует ритуала, он не только нечто значит, но является порталом для перенесения в метафизику.
Это не язык знаков, а испорченный язык, нарушенная коммуникация, которую нужно все время восстанавливать. В принципе, все это может работать только в храме, так, чтобы пространство и движение заполняло пробелы потерянных слов. Однако дело не исчерпывается храмом. Такое устройство сакрального определяет жреческие ценности в городах авраамических религий.
Чтобы соединить сломанную волшебную палочку, нужно найти ту ее половину, которая осталась в реальности. Чтобы восстановить разрушенный храм, нужны его останки. Это обнаружение — обязанность жрецов. Они ищут истоки, начала, время жрецов — прошлое. Они постоянно всматриваются в ткань города в надежде найти в ней следы божественного замысла, Шехины. Она может проявляться в разных вещах — в красоте, в непостижимости, в надежде, что какой-нибудь выброшенный камень окажется краеугольным.
Вероятно, есть люди, которые способны постичь символ самостоятельно. Откровение может случиться с кем угодно и когда угодно. Однако надеяться на это чудо для успешной социальной практики было бы неразумным. Смысл символа неустойчив, расплывчат, размыт — но он толкуется. Символ нуждается в толковании, он не существует без толкований, он порождает постоянно действующий, устойчивый институт толкования. Это — функция жрецов. Проповедники, учителя, экскурсоводы, краеведы, филологи, историки, философы и т. д.— все они нужны для того, чтобы удерживать сакральное и разъяснять его всем остальным социальным группам.
Человек не способен научиться языку, если он вырастает в одиночестве. Знаки социальны — они требуют существования социума, который их понимает и употребляет. Для того чтобы система соотнесения реальности с небесами работала, чтобы существовал язык метафизики, необходимо существование устойчивого социума, который его знает. Задача жрецов — создание и поддержание социума, который понимает метафизические языки. Городские сообщества не существуют без жрецов, и это в равной степени относится к церковному приходу и к сообществу велосипедистов — чтобы понять, как оно ездит, ищите жреца велосипедистов.
Обнаружение сакрального, толкование сакрального и поддержание социума, способного им пользоваться,— вот жреческие ценности в городе.
Каждому, кто оказывался в одиночестве в незнакомом городе, ведомо состояние, когда ты совсем ничего не понимаешь — и это раздражает. Город не является произведением искусства в том смысле, что у него нет автора. Но, с другой стороны, это материя не менее сложная, чем кино или архитектура, а то, что она не так совершенна, что за ней — неосознанный опыт поколений, а не выверенный авторский жест, пожалуй, даже затрудняет восприятие. Город полезно уметь видеть, без этого от него трудно получать удовольствие. Иногда это касается даже родного города. Из чего состоит город? Что такое улица, переулок, площадь, бульвар, сквер, что такое зелень и вода в городе, как живет в городе власть, бизнес, культура, производство, торговля, как возникли кварталы и микрорайоны? Мы начинаем публиковать серию очерков по структуре городского пространства. Первый из них — об улицах.
Читать далее
Священник или жрец?
Яков Кротов: Этот выпуск нашей программы посвящен встрече с интересным человеком, суть которого мы сейчас будем выяснять. Назовем нашу программу условно «Священник или жрец?». Перед нами — отец Григорий Михнов-Войтенко, человек с двумя фамилиями, множеством лиц и очень бурной, как я понимаю, биографией. В настоящее время вы в московской студии Радио Свобода, а священник вы в Старой Руссе?
Григорий Михнов-Войтенко: Совершенно верно.
Яков Кротов: От любителя российской истории — глубокий поклон Старой Руссе. Для всех, кто не знает, напомню, что это первая столица славянского российского государства — потому она и Старая. Новгород по отношению к ней — новый. У меня всегда вызывали зависть люди, которые бывали, можно сказать, в колыбели. Сколько людей в городе?
Григорий Михнов-Войтенко: Около 30 тысяч.
Яков Кротов: А церквей?
Григорий Михнов-Войтенко: 3.
Яков Кротов: А было?
Григорий Михнов-Войтенко: А было 27.
Яков Кротов: 27!
Григорий Михнов-Войтенко: Было 27 православных церквей, 2 молельных дома у старообрядцев, одна кирха и 2 синагоги.
Григорий Михнов-ВойтенкоЯков Кротов: На какое же количество людей?
Григорий Михнов-Войтенко: На 15 тыс.
Яков Кротов: Что случилось за прошедшие годы? Я так понимаю, что вы — не уроженец Старой Руссы?
Григорий Михнов-Войтенко: Нет, я не уроженец, хотя, как ни странно, я к этому городу имею непосредственное отношение, потому что у меня дед по материнской линии родился в Старой Руссе, а мой прадед там похоронен.
Яков Кротов: И вы любите Достоевского?
Григорий Михнов-Войтенко: Я думаю, что в русской литературе Федор Михайлович, безусловно, занимает очень важное место.
Яков Кротов: Я понял: вы не любите Достоевского.
Григорий Михнов-Войтенко: Простите, я люблю жену, люблю своих детей.
Яков Кротов: Сколько их?
Григорий Михнов-Войтенко: Четверо.
Яков Кротов: Но Достоевский в Старой Руссе, я думаю, на каждом углу.
Григорий Михнов-Войтенко: Да, его в Мемориальном музее, Доме-музее Достоевского, справедливо называют «наш кормилец», — поэтому, конечно, Достоевского достаточно много в Старой Руссе.
Яков Кротов: Вы меня повергли в шок. Если на 15 тысяч населения — 30 храмов (прошу прощения, что у меня такой поповский арифмометр в голове), то выходит на каждый храм — 500 душ. В общем, это близко к дореволюционной норме.
Григорий Михнов-Войтенко: Во-первых, это, действительно, близко к норме. Во-вторых, город же был очень богатым. Даже после того, как закрыли в середине XIX века соляной промысел, город оставался очень богатым за счет курорта, за счет очень развитой торговли.
Дом Достоевского в Старой РуссеЯков Кротов: Железная дорога ведь миновала город?
Уровень окладов такой, что прожить на них, и то с определенным трудом, можно только в провинциальном городе
Григорий Михнов-Войтенко: Нет, железная дорога, собственно, тоже была до беды. Неправильно я говорю: железная дорога есть и сейчас, но сейчас это только транзит. А была прямая дорога еще в Санкт-Петербург, которой теперь нет, потому что где-то были нужны рельсы, их разобрали и увезли. Где-то нужно было срочно строить какую-то другую дорогу.
Яков Кротов: Вы святой человек: вы думаете, что они были где-то нужны. Я думаю, что их просто…
Григорий Михнов-Войтенко: Нет, нет, они были нужны. Будем надеяться, что их там использовали.
Яков Кротов: Святой человек! Собственно, это жреческий вопрос или священнический — может ли приход прокормить священника?
Григорий Михнов-Войтенко: Жреческий.
Яков Кротов: Да еще священника с 4 детьми?
Григорий Михнов-Войтенко: Абсолютно жреческий.
Яков Кротов: Да вы же там и не один.
Григорий Михнов-Войтенко: Да, я еще и не один.
Яков Кротов: Сколько клир?
Григорий Михнов-Войтенко: Клир — 4 священника сейчас.
Яков Кротов: 4 священника, дьякон.
Григорий Михнов-Войтенко: Да, дьякон есть — соборный дьякон, конечно.
Яков Кротов: Пономарь?
Григорий Михнов-Войтенко: Пономарей полно.
Яков Кротов: На окладе или без?
Григорий Михнов-Войтенко: На окладе.
Яков Кротов: Тогда, видимо, что-то изменилось за 100 лет, потому что я помню по текстам, что основной вопрос перед революцией (из-за которого, я подозреваю, революция отчасти и свершилась) — это классовая рознь между пономарями и дьяконами, дьяконами и священниками. После свержения Николая Александровича первый вопрос, который обсуждали епархиальные съезды, — это в какой пропорции делить требные деньги.
Григорий Михнов-Войтенко: Да.
Яков Кротов: Берется гривенник (приличные деньги по тогдашним временам), который платят пономарю, дьякону – 3 копейки, а священнику — 5. Вот такая пропорция. Сейчас такая же?
Григорий Михнов-Войтенко: Мне сложно сказать, поскольку я не настоятель и к деньгам имею отношение только в бухгалтерии, когда получаю оклад. Единственное, что вполне можно сказать, — что, в общем, уровень окладов такой, что прожить на них, и то с определенным трудом, можно только в провинциальном городе.
Яков Кротов: Это мнение вашей жены и ваших детей?
Григорий Михнов-Войтенко: Нет, это мнение нашего государства, которое устанавливает прожиточный минимум на единицу населения. Если это сложить и поделить, то не получается. Когда я несколько раз, оформляя какие-то бумаги в разных наших государственных службах, должен был предоставлять справку о зарплате, на меня смотрели как на умалишенного: видимо, подозревали в каких-то сугубых махинациях.
Яков Кротов: И подавали на бедность.
Григорий Михнов-Войтенко: Да, подавали.
Яков Кротов: Но я думаю, что когда вы принимали крещение, то вряд ли воображали себе все это. А вы принимали крещение, или вас крестили в несознательном возрасте?
Григорий Михнов-Войтенко: Я принимал крещение. По счастью, меня крестил Александр Мень. Это была очень важная история в моей жизни — мое знакомство с ним, хотя меня несколько лет уговаривали к нему поехать. Когда я, наконец, к нему поехал, я поехал один.
Яков Кротов: А год?
Григорий Михнов-Войтенко: 1984.
Яков Кротов: То есть до горбачевского призыва?
Григорий Михнов-Войтенко: Да. И когда я попал в храм, меня очень волновал вопрос — а как я его узнаю? Я еду к совершенно незнакомому человеку. Ведь на книжках, которые вы, конечно, помните…
Яков Кротов: А вы знали, что это его книги?
Григорий Михнов-Войтенко: Конечно.
Яков Кротов: Они были под псевдонимом?
Григорий Михнов-Войтенко: Совершенно верно.
Яков Кротов: Я знаю массу людей, которые не знали, что их духовник — автор этих книг.
Григорий Михнов-Войтенко: Как я опознаю Эммануила Светлова без фотографии? Мне очень трогательно сказал мой друг — ты его увидишь, ты его узнаешь. И была история, которую я очень люблю рассказывать. Представьте себе, я приехал туда — 17-летний обалдуй, ни разу не бывший на службе в храме. И я вижу следующую картину. Откуда-то оттуда (сейчас я могу сказать — из алтаря), из-за стенки выходит дядечка.
Яков Кротов: Надо, наверное, говорить «из-за Pussy Riot».
Григорий Михнов-Войтенко: Не знаю. Из-за стенки. Я это так воспринимал — просто какая-то стенка с дверцей. Из этой стенки выходит дядечка в таком довольно затрепанном, некогда красивом халате, с бородой.
Яков Кротов: Ладно — затрепанный! Я помню это облачение.
Григорий Михнов-Войтенко: Подождите, я расскажу. Все-таки в достаточно затрепанном халате — и начинает по книжке что-то такое бубнить. И бубнит очень долго — мне показалось, что бесконечно долго, что это продолжается просто какое-то совершенно неимоверное количество времени. И вот пока это происходит, у меня есть время его рассмотреть. И вот я его рассматриваю и понимаю, что то, что я вижу перед собой, совершенно никак не сочетается с тем образом, который я придумал. Ведь часто бывает — мы читаем какую-то книжку, и у нас возникает некий образ ее автора, в том числе.
Яков Кротов: После прочтения книг отца Александра он казался вам высоким, пузатым?
Григорий Михнов-Войтенко: Нет, он выглядел светящимся.
Яков Кротов: В воображении?
Григорий Михнов-Войтенко: В воображении.
Яков Кротов: А в натуре — нет?
Есть очень важные слова, которыми заканчивается Евангелие от Матфея: «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына, и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я заповедал вам»
Григорий Михнов-Войтенко: Подождите. Я же должен дорассказать эту историю. Так вот, я, глядя на этого человека, который долго и бесконечно бубнит на непонятном языке непонятные слова, принял такое вполне историческое решение. Ну, бывает такое несоответствие. Но я же для себя решил, что я этого человека, который написал эти книжки, люблю — значит, буду любить вот такого человека, какого я вижу перед собой. И в тот момент, когда я для себя принимаю это историческое решение — любить этого человека, человек складывает книжечку и уходит за стенку. И тут открываются царские врата, и я понимаю, что вот передо мной — отец Александр, а тот, кого я решил любить, это не он.
Яков Кротов: Это был отец Иван.
Григорий Михнов-Войтенко: Нет.
Яков Кротов: А кто еще?!
Григорий Михнов-Войтенко: Это был будущий отец Владимир Архипов, который читал часы и, как все наши пономари, как и я сам, когда был пономарем, делал это достаточно невыразительно и скучно.
Яков Кротов: Пономарь не должен читать выразительно.
Григорий Михнов-Войтенко: Да — ну, что делать, такова традиция. Потом я эту историю рассказывал, в том числе, отцу Владимиру Архипову, он очень смеялся. Я говорил: «Батюшка, мы были с вами просто обречены друг на друга, потому что, не будучи с вами знаком, я вас уже любил по приговору».
Яков Кротов: А вера — до того, после того, во время того?
Григорий Михнов-Войтенко: Для того, чтобы креститься, нужна вера.
Яков Кротов: Вы поистине — святой наивный человек. После стольких лет священства вы не знаете, что крестятся без веры?
Григорий Михнов-Войтенко: Я знаю.
Яков Кротов: Крестите?
Григорий Михнов-Войтенко: Стараюсь не крестить.
Яков Кротов: А как вы проверяете?
Григорий Михнов-Войтенко: Я нашел очень простую отговорку. Первое, что я делаю, когда приходит очередной человек с «батюшка, надо покрестить», — я задаю вопрос: «А зачем?» Очень часто на этом разговор заканчивается. Если разговор продолжается, и люди пытаются объяснить, зачем это нужно, то я задаю второй вопрос: «А знаете ли вы «Символ веры»?» И третий вопрос: «Какие вы знаете заповеди?» Сделана такая небольшая брошюрка, где все это есть. Я обычно ее даю — почитайте. Половина людей не читает, но некоторые приходят, даже выучив, к моему изумлению. Все-таки существует некий процент людей, которые добиваются от меня того, чтобы я совершил это таинство.
Яков Кротов: Надо придумать дополнительный входной тест, чтобы отсечь и т. д.
Григорий Михнов-Войтенко: Наверное…
Яков Кротов: А вы не знаете, что бывают случаи, когда человек крестится без веры, а потом?..
Григорий Михнов-Войтенко: Знаю.
Яков Кротов: И наоборот.
Григорий Михнов-Войтенко: Но это вообще имеет отношение и к жречеству, и к священству, и к главной беде нашей Церкви, которую мы сейчас с вами наблюдаем воочию.
Яков Кротов: Я не знал, что у Церкви есть беды. Победы!
Григорий Михнов-Войтенко: Сейчас расскажу. Как вы помните, есть очень важные слова, которыми заканчивается Евангелие от Матфея: «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына, и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я заповедал вам».
Яков Кротов: Это была не шутка?
Григорий Михнов-Войтенко: Я думаю, что это была не шутка. Я думаю, что это ключевая вещь, из-за которой, собственно говоря, Церковь профанирует свое предназначение в этом мире.
Яков Кротов: Не понял. По-моему, все просто. Господь сказал идти и научить все народы. Значит, мы идем, учим…
Григорий Михнов-Войтенко: Крестить все народы.
Яков Кротов: И крестить, и научить. Значит, мы идем, ищем…
Григорий Михнов-Войтенко: Крестим и не учим.
Яков Кротов: Мы ищем руководителя и лидера народа. И с его помощью — он обязывает креститься и научиться… Ну, не снизу же работать…
Григорий Михнов-Войтенко: Ну, да.
Яков Кротов: Снизу же долго.
Григорий Михнов-Войтенко: Снизу долго.
Яков Кротов: Пока травка подрастет, лошадка сдохнет.
Григорий Михнов-Войтенко: Ну, мы разве торопимся?
Яков Кротов: Не мы, а вы. А вы не торопитесь?
Григорий Михнов-Войтенко: Мы не торопимся.
Яков Кротов: То есть в Старой Руссе еще есть некрещеные?
Григорий Михнов-Войтенко: Я думаю, есть.
Яков Кротов: А как вы их обращаете?
Григорий Михнов-Войтенко: Да, наверное, невозможно обратить человека, сколько бы миссионерских съездов ни проходило.
Яков Кротов: Это вы богохульствуете на Евангелие и говорите, что Господь дал нереальную заповедь?
Наверное, невозможно обратить человека, сколько бы миссионерских съездов ни проходило
Григорий Михнов-Войтенко: Нет, почему?! Я говорю о том, что все равно человек, даже покрестившись, в приказном порядке не начинает жить по тем принципам, по тем обязательствам, которые он берет на себя при крещении. Что будет большим богохульством?
Яков Кротов: Чудно! Тогда вопрос о жречестве и священстве можно повернуть как вопрос о том, где, собственно, симптомы принуждения? Если вы крестите младенца, если вы проповедуете в школе, если вы крестите ребенка 10 лет, 13, 15?..
Григорий Михнов-Войтенко: Кстати, в 10-13 лет очень хорошо крестить детей, потому что они обычно очень восприимчивы. И это как раз очень благодарный материал (извините за такую формулировку) для того, чтобы человек воспринял то, что ему говорят.
Яков Кротов: 6-7?
Григорий Михнов-Войтенко: 6-7 хуже.
Яков Кротов: Как вы определите?..
Григорий Михнов-Войтенко: Ну, как… Нам же современное российское общество вполне навязывает нашу национальную…
Яков Кротов: Этнорелигиозную идентичность.
Григорий Михнов-Войтенко: Да. Я не могу это запомнить. И среди прочих, мягко говоря, немаловажных моментов как раз указывается принадлежность к православию. Какой еще механизм принуждения мы должны придумать? По-моему, совершенно четко — кто не с нами, тот против нас.
Яков Кротов: Заметьте, не я это сказал! Вообще, Старая Русса зародилась как торгово-военный форпост. В этом смысле колыбель Руси украшена гвоздиками и прочими острыми предметами. «Кто не с нами, тот против нас», — это ведь тоже евангельские слова. Я думаю, что это было поговоркой и до Спасителя – «кто не с вами»… А, у Спасителя – «кто не против вас, тот с вами». Многие скажут, что это одно и то же, как Туринская плащаница: так или так. Почему тогда в Старой Руссе нет старообрядческих церквей?
Григорий Михнов-Войтенко: Старообрядческая церковь есть.
Яков Кротов: Действующая?
Григорий Михнов-Войтенко: Да, действующая. Старообрядческая община не потерялась. Костела нет.
Яков Кротов: Ввиду отсутствия поляков.
Григорий Михнов-Войтенко: Ввиду отсутствия поляков. Синагог нет, потому что практически все еврейское население было истреблено в 1942 году.
Яков Кротов: Прямо там же?
Григорий Михнов-Войтенко: Прямо там же: вдоль улиц ныне Энгельса и Карла Маркса на каждом фонарном столбе висело по несколько человек. Я видел эти фотографии. Честно говоря, совершенно кошмарные фотографии… Это была очень печальная история. И те немногочисленные уроженцы Старой Руссы еврейской национальности, кто оказался в эвакуации, после войны, в основном, не вернулись. Тогда Старая Русса была практически вся разрушена. Очень многим давали возможность прописаться в Питере, поскольку в тот момент это была Ленинградская область. Они уезжали в Питер.
Яков Кротов: Старообрядцы из приемлющих священство или…
Григорий Михнов-Войтенко: Из не приемлющих. Сейчас есть протестанты, есть Евангелистская Церковь, довольно большая община, достаточно заметная, конечно, есть Свидетели Иеговы. Адвентисты тоже есть.
Яков Кротов: А вы никогда не задумывались о том, что, может быть, правильнее по-старообрядчески (к вопросу о священстве и жречестве) — что граница между священником и жрецом проходит по деньгам? Я это слышу очень часто, потому что я все время хожу в подряснике. Мне очень часто приходится отдуваться за тех, кто ездит в «мерседесах» и БМВ, — «вы, попы, всю Русь ограбили». И я тоже хочу поднять руку и спросить: «а где я могу получить?..». В Интернете этот вопрос часто задают. Я думаю, что, если бы нам звонили слушатели, то они тоже спросили бы. Как можно продавать благодать за деньги? Как в «Берегись автомобиля». Насколько хорошо Анна Павлова танцевала бы вечером, если бы днем она работала у станка? Насколько вдохновенней вы проповедовали бы слова «блаженны нищие духом», если бы в течение недели вы растили тыкву, как говорит Лесков.
Григорий Михнов-Войтенко: Я думаю, что это, наверное, было бы, действительно, лучше. Но для того, чтобы это было так, нужно совершенно другое количество людей, которые заинтересованы в христианском общении, которые заинтересованы в служении, литургии. Сегодня, когда…
Яков Кротов: Я не понял логики: чтобы не получать зарплату, нужно меньше людей…
Григорий Михнов-Войтенко: Нужно больше людей, больше священников, тех, кого могли бы назвать пресвитерами. Берем, к примеру, ту же самую Старую Руссу. Получается, что на одного священника (условно) — по крайней мере, 8,5 тысяч потенциальных прихожан. Понятно, что священник будет все время занят.
Яков Кротов: Но это же потенциальные…
Григорий Михнов-Войтенко: Тем не менее.
Яков Кротов: А сколько кинетических?
Григорий Михнов-Войтенко: А кинетических — тех 1,5 сотен, которые есть, тоже хватает. Если бы община составляла 12 человек, к примеру…
Яков Кротов: И один из них — Иуда. Зачем вам это надо?
Сегодня и во всех остальных конфессиях религиозных лидеров, так или иначе, содержит община
Григорий Михнов-Войтенко: …то, наверное, в этом был бы смысл, в этом была бы правда (а Иуда в любом случае будет). Кстати, я говорю не в защиту исключительно православных священников, но сегодня и во всех остальных конфессиях, насколько я знаю, религиозных лидеров, так или иначе, содержит община.
Яков Кротов: Освобожденные религиозные работники.
Григорий Михнов-Войтенко: Да. Лишь бы он не был освобожден от совести. Ведь эта граница, наверное, все-таки проходит по линии совести, а не денег.
Яков Кротов: Если бы граница проходила не по линии денег, а по линии совести, то Господь не сказал бы «Блаженны нищие духом», — тут он, по-моему, эти две границы совместил, на наше несчастье.
Григорий Михнов-Войтенко: Да, это тоже есть. Но, если брать наше стандартное отеческое толкование, то, говоря о нищете духовной, мы все-таки пониманием так, что Господь имел в виду наше осознание своей нищеты, — все-таки, опять же, вопрос совести.
Яков Кротов: А в Евангелии от Луки даже и слова «духом» нет.
Григорий Михнов-Войтенко: Я думаю, что, обсуждая разночтения синодального перевода…
Яков Кротов: Нет, это разночтения в оригинале. Матфей, скорее всего, добавил — это видно, с точки зрения текстологов, что слово «духом» добавлено. Другое дело, что, может, оно не зря добавлено.
Григорий Михнов-Войтенко: Я тоже думаю, что не зря.
Яков Кротов: Священничество и жречество. Жрец, конечно, близок к Богу, он посредник, но при этом он не руководит прихожанами, грубо говоря. Он как повар на кухне, как в Храме Иерусалимском — принесли тебе, ты зарезал, кровь выцедил, обжарка. Эта часть — тебе, эта — мне и детям. К нему и относятся соответственно. Я думаю, что сейчас такое отношение, скорее, встретишь среди баптистов, чем среди православных. Православный священник в этом смысле — как раз не жрец, он скорее Господь Бог! Это то, на что много жаловался отец Александр Шмеман, как мы с удивлением узнали из его дневников. Очень переживал, что из него сделали дешевую замену психоаналитика, сделали из него кумира.
Григорий Михнов-Войтенко: Причем, обратим внимание, что это не в России, не в Советской России, а совсем-совсем в другой стране, с другой культурой.
Яков Кротов: Шмеман проповедовал в довольно специфическом кластере бывшей миграции и тех, кто хотел влиться в эту своеобразную секту. Экзотика, русское православие. Человек, который идет в американский протестантский храм, по умолчанию… Там совсем другая психология.
Григорий Михнов-Войтенко: По умолчанию — в мейнстрим.
Можно ли в современной российской провинции быть священником, а не жрецом?
Яков Кротов: Да, он ищет, как у нас, если идти в Храм Христа Спасителя. А тут человек еще и против чего-то идет в православие. В этом смысле как вы себя воспринимаете? Можно ли в современной российской провинции быть священником, а не жрецом?
Григорий Михнов-Войтенко: Самая чудовищная фраза, которую я когда-либо слышал, которая вызывает во мне просто внутреннее содрогание, это такой канцеляризм – «удовлетворение религиозных потребностей населения».
Яков Кротов: УРПН. Это из инструкции Совнаркома 1929 года.
Григорий Михнов-Войтенко: Это самое страшное. Ведь провинциальный священник, по мнению, прежде всего, районной власти, собственно, для этого и предназначен, как, к сожалению, и по мнению очень многих людей, которые приходят в храм и требуют (вплоть до скандала), чтобы им немедленно что-нибудь такое вынули и положили.
Яков Кротов: А слово «треба», отец Григорий, от чего у нас происходит?
Григорий Михнов-Войтенко: От этого. Но все-таки я думаю, что одно дело — происхождение этого слова немножко в другие времена…
Яков Кротов: Я вас порадую, у нас оно означало совсем другое. Оно не означало настоятельную просьбу, оно означало как раз — приносить какую-то жертву и, собственно, быть поваром.
Григорий Михнов-Войтенко: Я не разделяю это слово «повар» — вот такое отношение. У меня есть несколько другая для себя формулировка, другое оправдание. Собственно, в чем предназначение священника, кроме того, что он — совершитель таинств в общине? Наверное, все-таки задача священника в общине — это еще быть таким своего рода духовным шерпой.
Яков Кротов: Не все помнят, кто такой шерпа.
Григорий Михнов-Войтенко: Да. Это очень специфическая профессия профессиональных альпинистов, которые помогают туристам в Гималаях подниматься на очень большие высоты. Человек, который идет рядом с тобой, иногда впереди тебя, несет твой груз и полностью разделяет твой труд. При этом он все время остается как бы за кадром. Все помнят и знают имена восходителей, но это другое. Мы многих знаем — и того же отца Александра Шмемана, и отца Александра Меня, и еще многих, и ныне здравствующих, но это немножко другая активность. Эпистолярный жанр и их успехи в миссионерстве не отражают того, что они делали в своей священнической работе.
Яков Кротов: В каком смысле?
Григорий Михнов-Войтенко: Я имею в виду эти взаимоотношения с прихожанами. Как мы с вами помним, тот же самый отец Александр никогда не руководил.
Яков Кротов: Я бы поспорил. Я бы сказал, что он деликатно руководил.
Григорий Михнов-Войтенко: Он деликатно руководил, он деликатно подсказывал, он деликатно высказывал свое собственное несогласие.
Яков Кротов: За развод мог выгнать.
Григорий Михнов-Войтенко: Но это имеет отношение уже к воспитательному процессу.
Яков Кротов: А это воспитательный процесс?
Григорий Михнов-Войтенко: Конечно.
Мало кто знает, что самый легкий грех — это обругать погоду
Яков Кротов: Если взять развод… Я часто озадачиваю этим людей, спрашиваю — какой самый легкий грех? Мало кто знает, что это — обругать погоду. Сказать — что же это за погода?! По епитимийнику святого Кирилла Белозерского начала XV века это три поклона и «Отче наш», потому что ты хулишь дождь или снег, Божье творение. Про жару, кстати, там ничего нет. А самый тяжелый грех — их два равноценных, 15 лет отлучения от церкви — это убийство (даже если это на войне, защита отечества и т. д.) и развод. При слове «развод» народ выпадает в осадок. А что же тогда? А кто может быть членом Церкви?
Григорий Михнов-Войтенко: Никто.
Яков Кротов: Как говорит один архиерей, «если мы не будем пускать в храм разведенных и незарегистрированных, то в храме вообще никого не будет». Как с этим в Старой Руссе?
Григорий Михнов-Войтенко: Плохо.
Яков Кротов: В смысле – хорошо? Они есть в Церкви?
Григорий Михнов-Войтенко: Конечно.
Яков Кротов: Но это хорошо.
Григорий Михнов-Войтенко: Они есть в Церкви точно так же, как они есть во всех церквах.
Яков Кротов: Как может быть отлучение от Церкви наказанием, в смысле, «поучением»? Славянское-то значение слова — такое.
Григорий Михнов-Войтенко: Я думаю, что если человек все-таки выбирает между… Это, конечно, подходит только для человека, который не просто знает каноны, не просто знает заповеди, а действительно воспринимает их как некую ценность. Если это не является для него никаким тормозом, то есть он предпочитает решение своих проблем, идущее наперекор Божьим заповедям, то тогда, мне кажется, для него это, по крайней мере, будет повод, как минимум, задуматься.
Яков Кротов: Вы — святой человек, в смысле — наивный.
Григорий Михнов-Войтенко: Может быть, не знаю.
Яков Кротов: Человек, влюбившийся до такой степени, что бросил жену (ведь обычно развод — это не просто бросил жену, а ушел к кому-то), — и он задумается?
Григорий Михнов-Войтенко: Иногда все-таки задумывается.
Яков Кротов: Задумается и пойдет дальше разводиться.
Григорий Михнов-Войтенко: Нет, не соглашусь.
Яков Кротов: Я не оправдываю развод.
Григорий Михнов-Войтенко: Я понимаю, о чем вы говорите. Очень хорошо понимаю.
Яков Кротов: Вы сравнили священника с шерпой. Мы можем себе представить носильщика, который станет нанявшему его британскому джентльмену объяснять что-то про его, британского джентльмена, интимную жизнь?!
Григорий Михнов-Войтенко: Я не случайно привел именно вот этот образ шерпы. Задача шерпы — объяснять, куда поставить ногу при восхождении.
Яков Кротов: Тут, по-моему, речь не о ноге, а о другой части тела.
Григорий Михнов-Войтенко: Подождите. Я же привел образ. Шерпа объявляется абсолютным авторитетом в том, что касается именно процесса восхождения на гору. Если мы сравниваем духовную жизнь с восхождением на гору, то задача шерпы — объяснить, что на самом деле это очень важно. Я вам советую, простите, дополнительную пару носков. Вы мне говорите: «Какое это имеет отношение? У меня термобелье, у меня все самое лучше» и т. д. Шерпа говорит: «Нет, надо надеть вторую пару». Если мы доверяем шерпе, то, несмотря на то, что это такая интимная подробность, которую, вроде бы, у джентльменов не принято обсуждать, то значит, я надену эту вторую пару. Если я в итоге отморозил себе ноги, — ну, шерпа точно не виноват.
Священник, пастырь… Означает ли это, что паства — это овцы?
Яков Кротов: Я вспомнил старый (по-моему, XV века) анекдот про паломника, который пошел в паломничество в Иерусалим, нашил, как тогда полагалось, колокольчик на шляпу. По возвращении он приходит к священнику и говорит: «Отче, я вот спаломничал в Иерусалим. Но как-то все не совсем ладно сложилось. Я отошел на 10 километров, вдруг гляжу — красивая девушка. Я согрешил. На следующий день отошел от ночлега на 5 километров — девушка. Согрешил. В общем, 5-6″… «Слушай, — говорит исповедник, — ты не на то место колокольчик пришил». (Смех в студии)
Священник, пастырь… Означает ли это, что паства — это овцы? Ведь то, что вы описываете, это все-таки процесс загоняния.
Григорий Михнов-Войтенко: Что я описываю?
Яков Кротов: Духовное руководство.
Григорий Михнов-Войтенко: Да нет.
Яков Кротов: Куда поставить ногу.
Григорий Михнов-Войтенко: Шерпа имеет возможность только подсказать. Он же не командует. Плюс ко всему, задача шерпы — нести груз, который собрал джентльмен.
Яков Кротов: В каком смысле вы несете груз?
Григорий Михнов-Войтенко: Я думаю, что любому священнику, который, так или иначе, вынужден общаться с людьми достаточно необразованными, с точки зрения евангельских истин приходится иногда мучительно проводить вот эту воспитательную работу с объяснением того, что надо делать. Можно вернуться к временам моего крещения, когда я все-таки дождался конца службы, подошел к отцу Александру, представился. И он сказал: «Ну, и замечательно, что вы приехали. Значит, мы с вами начнем готовиться». И полтора года я достаточно активно, практически каждую неделю, приезжал к нему или ездил на разные группы и т. д. и т. п. Конечно, когда он согласился меня крестить, — сейчас я понимаю, что ни к чему я готов не был. Но все-таки хотя бы на уровне просто знаний…
Яков Кротов: Это начало часто бывает и концом — в том смысле, что человек знает христианство, знает Христа, как сейчас модно говорить, — и все, а людей не любит. Тогда о чем мы говорим?
Григорий Михнов-Войтенко: Тогда мы ни о чем не говорим.
Яков Кротов: Тогда давайте подойдем к священству и жречеству с другой стороны. Идеальное количество прихожан на душу духовенства — какое бы вы назвали? Вы сказали — 12?
Григорий Михнов-Войтенко: Нет, наверное, 12 — это только какая-то очень специфическая община. Если все-таки иметь в виду структуру, привычную сегодня в России, то я думаю, это не больше 100 человек. Это потолок.
Яков Кротов: Структуру, привычную сегодня в России…
Григорий Михнов-Войтенко: Да. Я имею в виду храм, где есть освобожденный духовный работник, где службы проходят достаточно регулярно.
Яков Кротов: Тогда это кабала у государства, потому что 100 человек не соберут достаточно денег для содержания храма – на земельный налог, тепло и свет.
Григорий Михнов-Войтенко: Я думаю, что храмы должны быть адекватны такому количеству.
Яков Кротов: Я видел рекламу надувных храмов — поляки выпускают.
Григорий Михнов-Войтенко: Я не уверен в надувных храмах, но то, что я видел в той же самой Финляндии… Кстати, я это видел не где-нибудь, а в приходе Русской Православной Церкви Московского патриархата.
Яков Кротов: Я думаю, что там других и нет.
Григорий Михнов-Войтенко: Почему же? Есть.
Яков Кротов: Православные храмы?
Григорий Михнов-Войтенко: Конечно! Центральный Кафедральный Собор — Успенский.
Яков Кротов: Автономной Константинопольской… Все, я понял!
Григорий Михнов-Войтенко: У Московской патриархии там тоже, по-моему, 2 или 3 храма — как храмы, и 2 или 3 в квартирах на первом этаже. И они замечательно себя чувствуют.
Яков Кротов: Финские квартиры меньше российских? Страна-то маленькая.
Григорий Михнов-Войтенко: Мне так не показалось. Я не готов сказать, сколько там комнат, потому что там было что-то перестроено, переделано.
Яков Кротов: Сколько входит — человек 20?
Григорий Михнов-Войтенко: Наверное, больше. Ощущение было примерно 3-комнатной квартиры, где до 50 человек собираются достаточно легко. На воскресных службах, во всяком случае, как мне говорили, у них примерно 50-60 человек.
Яков Кротов: Шаг назад — к отцу Александру Меню. Я помню, в воспоминаниях одного человека… Он описывает, что, когда он впервые увидел отца Александра, он знал, что это отец Александр. Ему показали и сказали – вот, смотри. И он был в шоке от того, что тот, сказал он, напомнил ему оперного тенора типа Паваротти (кстати, по комплекции сходство отца Александра с Паваротти было). И его это резко оскорбило. У него было чувство какого-то омерзения, гадливости. Я знаю, что у многих людей сегодня такое чувство по отношению к духовенству. По сети ходят демотиваторы – «смотрите, какие толстые попы». Отец Александр воспринимался как слишком красивый.
Григорий Михнов-Войтенко: Нет, толстым он не был. Он был плотным.
Яков Кротов: Ну, в общем, 20 лишних килограммов. Это была довольно тяжелая проблема.
Григорий Михнов-Войтенко: Тем не менее…
Яков Кротов: Тот оскорбился не на то, что толстый, а на то, что красивый.
Григорий Михнов-Войтенко: Я понял.
Яков Кротов: Кстати, отец Александр дружил с замечательным ныне покойным священником, отцом Николаем Эшлиманом. И он рассказывал, что отец Николай был один из самых выдающихся проповедников, которых он знал, но при этом, говорил он, отец Николай был похож на артиста Меркурьева. И когда он приходил в обычную столовую самообслуживания, он садился за стол, подзывал повариху, и она выходила! Барин! Удивительно то, что его чрезвычайно любили прихожанки. Ну, это 60-е годы. Мужского пола вообще не было в храмах. И я думаю, что это действительно в каком-то смысле распространенный в провинции (а может быть, и не только в провинции) патерналистский идеал священника. Есть такое дело?
Григорий Михнов-Войтенко: Есть, конечно.
Яков Кротов: Вы себя ощущаете годным на эту роль? Или вы ее успешно играете?
Григорий Михнов-Войтенко: Я стараюсь разрушать этот образ, потому что мне он не симпатичен.
Яков Кротов: Чем? А как воспитывать без этого?
Самое неприятное в сегодняшнем мире — когда священники начинают собственный сан воспринимать как заслуженную награду
Григорий Михнов-Войтенко: Не знаю. Но я думаю, по крайней мере, то, что я увидел тогда в отце Александре: этот свет, без всяких сентенций, попыток описания жития… Это не был, конечно, материализованный свет. Но от него исходил свет. И когда он говорил на ту тему, которая ему была по-настоящему близка (а Евангелие — это то, что ему было близко), возникало абсолютное, стопроцентное доверие. И если вопросы, которые Евангелие ставит перед нами, совпадают с какими-то нашими внутренними устремлениями, проблемами и т. д, то вот тут мы начинаем совпадать с тем, кто об этом говорит от пережитого, а не от книжного… Это всегда чувствуется, когда человек говорит: он об этом размышлял или он с этой проблемой столкнулся вживую (в своей ли жизни или в жизни друга, брата, соседа), — или он пытается представить некую умозрительную конструкцию. Мне кажется, это самое неприятное в сегодняшнем мире — когда священники начинают собственный сан воспринимать как заслуженную награду.
Яков Кротов: Тяжкий крест! И поэтому мы вынуждены…
Григорий Михнов-Войтенко: Да, и поэтому мы вынуждены, и поэтому вы обеспечьте…
Яков Кротов: А вы нас слушайте.
Григорий Михнов-Войтенко: Ладно бы только «слушайте», но «вы нам должны еще обеспечить содержание, соответствующее нашим запросам».
Яков Кротов: …нашему тяжелому кресту.
Григорий Михнов-Войтенко: Или так, да.
Яков Кротов: Священник или жрец… Свет, который исходил от отца Александра, который я хорошо помню…
Григорий Михнов-Войтенко: Вы подтверждаете, что свет был? Не знаю, сколько люменов. Это техники могут подсказать.
Яков Кротов: Примерно 2700 по теплоте, потому что это был такой хороший, приятный, телесный свет, не ослепительный. Но я никогда не сформулирую вопрос: как святой священник или жрец светился отец Александр, будучи священником? Если бы он в конце 60-х уехал в Иерусалим и стал профессором библеистики (о чем шла речь в какой-то момент), то он бы светился, будучи профессором. Это не вопрос. Он светился не потому, что был священником.
Григорий Михнов-Войтенко: Конечно. Я не ставил вопрос так. Я просто описывал свои ощущения.
Яков Кротов: Я видел многих священников, сломавшихся. Я даже видел просто ушедших из священства. Они пытались светиться. В общем, я даже не назову ни одного священника, который светился бы. И слава Богу, ничего страшного. Никто не должен светиться.
Григорий Михнов-Войтенко: В задачу священника не входит свечение. В задачу священника входит принесение бескровной жертвы и функции шерпы по отношению к тем, кто хочет разобраться, что же там такого написано в этой книжке. Поэтому я хочу сделать вам несколько запоздалый комплимент, связанный с названием вашей передачи – «С христианской точки зрения». Мне очень нравится это название. Ведь это, собственно говоря, ключевой вопрос. Можно разводиться? Наверное, можно. Можно купить машину? Можно взять кредит? Можно кричать «Крым наш»? Все можно. А с христианской точки зрения? И вот здесь очень часто…
Яков Кротов: Христианин должен кричать «Крым наш», «Крым христианский».
Григорий Михнов-Войтенко: Давайте не будем сейчас об этом.
Яков Кротов: Я протестую — Крым христианский!
Люди, которые говорят о том, что «Крым наш», забывают, что на самом деле Крым не крымско-татарский, не украинский, не российский — он Божий, как и весь этот мир
Григорий Михнов-Войтенко: Нам не хватит времени. Конечно, христианский. На одной из проповедей мне пришлось сказать тем, кто очень активно (в том числе, в нашем приходе) выступал за то, что он именно наш. Люди, которые говорят о том, что «Крым наш», забывают, что на самом деле Крым не крымско-татарский, не украинский, не российский — он Божий, как и весь этот мир. Вот когда мы будем помнить о том, что он Божий, тогда, собственно говоря, и кричать-то не надо. Но это просто некое замечание.
Яков Кротов: Не могу оставить без внимания фразу о том, что «ну, развод, ну, с христианской точки зрения, ну, — можно». У вас такое прозвучало.
Григорий Михнов-Войтенко: Да нет. Можно — с точки зрения мира, того, как живет этот мир. Можно ли делать это? Можно ли делать то? Можно ли? И дальше вопрос — а с христианской точки зрения это можно? Кто я больше — гражданин своей страны, слуга царю, отец солдатам? Кто я? А с христианской точки зрения? И вот если возникают некие частные, а иногда и общественные вопросы, как относиться к той или иной проблеме, то задача священника, наверное, заключается как раз в том, чтобы попытаться, взяв эту самую книжку, посмотреть, что там написано о какой-либо подобной ситуации. Когда, например, люди начинают делить некое наследство, я очень часто привожу пример… Помните, в Евангелии от Луки — «Я ли поставлен вам судьей?» Существуют определенные государственные законы наследования. Поступи по этим законам — и будешь прав.
Яков Кротов: А если люди дерутся из-за того, кто свечку на кануне поправит?
Григорий Михнов-Войтенко: Давайте об этом не будем. Это беда. Это тяжелое воспитание, тяжелая наследственность, зачастую советская — завоевание собственного жизненного пространства: «этот подсвечник мой, я командую этим подсвечником».
Яков Кротов: «Шандал наш».
Григорий Михнов-Войтенко: Да.
Яков Кротов: А чем христианское жизненное пространство отличается от обычного?
Григорий Михнов-Войтенко: От обычного оно отличается, в частности, тем, что там для всех есть место, а значит, никто не уйдет обиженным.
Яков Кротов: Человек, который врезал мне по щеке, изнасиловал мою дочь (которой у меня, правда, нет) и сжег мой дом, — тоже?
Григорий Михнов-Войтенко: Конечно. Он же несчастен.
Яков Кротов: Он не сжег мой дом, он выгнал меня из квартиры и живет в моем доме. Это он — несчастный?
Григорий Михнов-Войтенко: Пусть он будет счастлив.
Яков Кротов: Жалко, что вы без жены. Ее точка зрения на то, как относиться к человеку, который выгоняет вас и ваших детей из квартиры, меня бы очень интересовала.
Григорий Михнов-Войтенко: Как ни странно, у нас много расхождений с матушкой по самым идейным вопросам, начиная с выноса мусора и заканчивая приобретением продуктов питания. Но на этот вопрос, я думаю, она ответила бы так же: что лучше уйти самому, чем вступать в бой за совершенно призрачные…
Яков Кротов: Пардон, отсюда я уйду, отсюда я уйду, и где я буду, в конце концов?
Григорий Михнов-Войтенко: «Господь усмотрит себе агнцев», — сказал один библейский персонаж в ответ на вопрос своего сына.
Яков Кротов: И меня зарежут.
Григорий Михнов-Войтенко: Значит, если воля Божья будет в этом… Это очень неприятно. И, наверное, опять же, совершенно неразумно напрашиваться на то, чтобы тебя зарезали. Ведь вы же прекрасно понимаете, что нужно отличать проповедь Франциска Ассизского перед султаном от проповеди в винном магазине.
Яков Кротов: Где опаснее?
Григорий Михнов-Войтенко: Султан опасен, но проповедовать в винном магазине — это означает нарваться на неприятности.
Яков Кротов: А вы считаете возможным и необходимым проповедовать в винном магазине?
Григорий Михнов-Войтенко: Нет, не считаю.
Яков Кротов: А они к вам ходят?
Григорий Михнов-Войтенко: Да! Это мой очень специфический контингент.
Яков Кротов: А «что ищет он в стране далекой»? Чего у вас ищут пьяницы?
Григорий Михнов-Войтенко: Любви и материальной помощи.
Яков Кротов: И как? Они напирают на то, что вы христианин?
Григорий Михнов-Войтенко: Они напирают на то, что, «ну, батюшка, ты же давай, помогай».
Яков Кротов: И что вы отвечаете?
Григорий Михнов-Войтенко: Чаще всего приходится отвечать – «на, возьми».
Яков Кротов: И матушка не возражает? Или вы ей не говорите?
Григорий Михнов-Войтенко: Ну, матушка возражает, конечно, но не столько потому, что матушка жалеет какие-то материальные средства, а потому, что матушка видит некоторую бесперспективность этого пути. Потому, что получивший свою мзду чаще всего не возвращается за духовным наставлением.
Яков Кротов: Отец Александр говорил, что проповедовать на поминках пьяному или хотя бы в подпитии… Причем, на поминках всегда и говорят, что все, с завтрашнего дня…
Григорий Михнов-Войтенко: А я вот, кстати, тоже крещеный, скажите мне!
Яков Кротов: Да, да.
Григорий Михнов-Войтенко: Да, такое есть.
Яков Кротов: Получается, что у вас просят совета и просят деньги те, кому не надо давать, и не просят те, кому надо.
Григорий Михнов-Войтенко: Просят, конечно, и те, кому надо, и не только деньги.
Яков Кротов: Вы не чувствуете себя дешевой заменой психотерапевту?
Григорий Михнов-Войтенко: Чувствую.
Яков Кротов: И как с этим быть?
Григорий Михнов-Войтенко: Не знаю пока. У меня нет ответа.
Яков Кротов: Когда вас рукоположили?
Григорий Михнов-Войтенко: 6 лет назад, это еще относительно небольшой срок.
Яков Кротов: Если по Библии, то это почти 7 лет…
Григорий Михнов-Войтенко: Правда, я всегда добавляю: поскольку мы служим обычно 7 дней в неделю…
Яков Кротов: Вы служите 7 дней в неделю?!
Григорий Михнов-Войтенко: Обычно 5 дней я служу утром и вечером, 2 дня выходных, но бывают недели, когда приходится служить неделю целиком. По количеству отслуженных литургий, уже давно — год за три. Но это – если, опять же, сравнивать со «средней температурой по больнице».
Яков Кротов: Раньше считалось, что покоритель Эвереста — Эдмунд Хиллари. Теперь в энциклопедиях пишут иначе, по алфавиту — первым идет его шерпа Тенцинг Норгей, а затем Эдмунд Хиллари, чего и вам желаем: чтобы те, кто идут позади, стали впереди, чтобы священник, в отличие от жреца, который возглавляет, почаще был постскриптумом. А потом, глядишь, Господь придет, перевернет книгу жизни, и те, кто был постскриптумом, станут предисловием. А автор у нас у всех один.
ЖРЕЦЫ И ХРАМЫ. Повседневная жизнь Египта во времена Клеопатры
ЖРЕЦЫ И ХРАМЫ
Самые религиозные люди
Чувства, которые выражал Геродот{137} в V веке о религиозности египтян, мог бы разделить четыре века спустя любой из посетивших страну, будь то грек или римлянин. На самом деле, существует мало стран, где религия была бы настолько связана с культурой. По последним данным, религиозные традиционные концепции составляли основу культуры фараонов, что гарантировало ее жизнеспособность, несмотря на различные исторические катаклизмы. Даже политический режим, социально-экономические структуры могли испытывать на себе глубокие потрясения, но основы древних культов всегда оставались непоколебимы, и более того, они могли адаптироваться к новым условиям, тем самым продолжая укреплять древнюю цивилизацию фараонов. Так, ни персидские завоевания при Камбизе, ни завоевания Александра не затронули жизнеспособности религиозной культуры Египта, которая в дальнейшем перенесет и римское вторжение. Эта удивительная жизнеспособность восхищала всех иностранцев, вступавших в долину Нила. Чтобы осмыслить подобный феномен до конца, необходима будет культурная революция. Произойдет она в III–IV веках нашей эры, результатом ее станет вторжение и триумф христианства.
Как любая система верований, египетская традиционная религия базировалась на внутренних представлениях о мире и обществе. Следуя этим представлениям, отношения между определяющими элементами социального и природного миров постигались в образах борьбы между порядком и хаосом, где боги выступали одновременно создателями и защитниками первого от второго. Это культурное представление, естественно, было тесно связано с условиями жизни в долине Нила, с основными принципами политической, социальной и экономической организации общества. Эта религия, в начале носящая общинный характер, оставляла очень мало места отдельной личности, для которой допустимым способом самовыражения оставалось религиозное благочестие. От царя, единственного собеседника богов, до обыкновенного египтянина, завязывающего свои собственные отношения с сакральным, уступив всю религиозную сферу жизни жрецам, проходила долгая и сложная эволюция, однако не испытывавшая на себе больших перерывов. Характерной особенностью египетских верований являлось не только сосуществование образов, выстраивающих иерархию отношений человека с божеством: царский образ, священный образ и образ человеческий, — но и объединение этих элементов по взаимозаменяемой и уникальной схеме, несмотря на множественность и видимое различие божественных образов и отождествляемых с ними мифов. Этот процесс позволил религии играть центральную роль в обществе эпохи фараонов. Благодаря мифологическим корням, она представляла, с одной стороны, нормативное моделирование структур власти, экономическую организацию и индивидуальное самосознание, а с другой стороны, благодаря распространенной по всей территории практике социальной жизни, отвечала на вопросы, возникающие в напряженные моменты, которыми так полна изменчивая человеческая природа.
Однако необходимо воздержаться от утверждения, что египетские верования составляли закрытую систему, сосредоточенную на себе самой, неспособную меняться и непроницаемую для любых внешних воздействий. Эти влияния были особенно распространены на Ближнем Востоке во время Нового царства, а также в последующий период. Они вносили культы новых божеств и даже новые формы религиозности. Но все эти нововведения должны были поначалу адаптироваться в местном сознании. Благодаря сложившимся условиям, такие сиро-ханаанские божества, как Астарта и Баал, нашли место (по крайней мере, в некоторых областях) в пантеоне египетских богов. В другом случае принятие «иноземных» богов было невозможно. Так случилось во время размещения персидскими царями еврейских военных колоний в дельте Нила и на самом юге страны в Элефантине.
Основные принципы еврейской религии оказались абсолютно несовместимы с религиозными чувствами египтян, и даже простое сосуществование на одной территории становилось практически невозможным, если не сказать конфликтным, что привело к разрушению еврейского храма в Элефантине в 410 году.{138} В религиозном менталитете греков не существовало подобных преград. Рассматривая Египет как один из возможных источников своей же собственной культуры, греки интересовались египетской мифологией и выработали еще до Александра систему соответствий между богами двух пантеонов: Амон — Зевс, Мут — Гера, Осирис — Дионис и т. д. Некоторые храмы Амона, как, например, храм Амона в оазисе Сива, часто посещались греческими паломниками еще за два века до завоеваний Александра Македонского. Неудивительно, что в подобных условиях обмен между двумя религиозными системами был практически односторонним.
Новейшие храмы
Птолемеевская эпоха отмечена реконструкцией и строительством большого количества религиозных зданий в долине Нила. Эта архитектурная деятельность, которая продолжалась во время римских завоеваний в течение двух последующих за смертью Клеопатры веков, была настолько важна, что большинство храмов, которые мы можем посетить теперь в Верхнем Египте, являются современниками Лагидов или же Рима эпохи Цезаря.
Храм Эдфу,{139} несомненно, лучше всех сохранившееся здание с башней, оградой, дворцовой колоннадой и целым внутренним убранством. Есть сведения, что он был полностью построен и декорирован в эпоху Птолемеев. Начало его строительства восходит к правлению Птолемея III, закончен он был во время правления Птолемея XII, примерно 170 лет спустя. Естественно, во время строительства возникали периоды остановки работ, связанные с политическими и экономическими условиями, как, например, в эпоху великих возмущений в Фиваиде, ставших причиной приостановки строительства практически на двадцать лет. Храм в Дендере{140} начал строиться примерно тогда же, когда был закончен храм Эдфу. Вряд ли это простое совпадение, так как вполне возможно, что та же группа строителей, которые возводили храм Эдфу, потом занималась строительством и в Дендере.{141} Таким образом, начало строительства храма Дендеры шло во время царствования Птолемея XII, в честь которого и были декорированы крипты. Великое искусство, позволившее скульпторам покрывать внешнюю южную стену знаменитой сценой, состоящей из фигур Птолемея Цезаря и Клеопатры перед лицом местных богов, расцвело в эпоху правления Клеопатры. Самая большая часть декорации восходит к временам римских императоров — от Августа до Нерона. С большой частью храма Ком Омбо, который представляет собой необычное расположение двух параллельных направлений, и главного храма в Филе, посвященного Исиде, эти конструкции являются основными архитектурными произведениями, которые дошли до наших дней как напоминание об эпохе Птолемеев. В отличие от исчезнувших памятников эллинистического стиля, сохранность зданий, предназначенных исключительно для фараонов, часто подталкивает историков к тому, чтобы окрестить религиозную политику Лагидов египтофильской. Хотя эта ситуация скорее была результатом сосредоточенности Лагидов на строительстве в столице, чье архитектурное достояние намного больше подвергалось разрушению, чем храмы Верхнего Египта.
Исключительно наличие этих памятников, в частности, храмов в Эдфу, Дендере и Филе (практически все из них дошли со своей собственной архитектурой или остались с нетронутым оформлением) позволяют нам составить точное представление о святилищах фараонов во всех подробностях. Может показаться странным, что именно эти поздние постройки служат лучшей иллюстрацией египетского традиционного храма, чем руины великих зданий Нового царства в Карнаке и Луксоре. Эти великие пространства, где царит тишина, нарушаемая только группами спешащих туристов, эти сумерки, которые сгущаются по мере продвижения в глубь храмов, эти сужающиеся залы — все пробуждает чувство присутствия божества даже у самых скептических личностей. Египетский храм — не церковь, это место, где человеческое существо вообще исключается, если не считать служителей богов. Внешний вид храма скорее напоминает крепость, он служит больше для устрашения врагов, чем для принятия паломников. Его узкие и редкие выходы всегда закрываются тяжелыми дверями. План, который содержит огромное количество различных переходов, соединяющих между собой дворы, зал с колоннадой, вестибюли (находящиеся между внешним миром и святая святых храма), был так задуман, чтобы впускать в храм только тех людей, которые имели туда доступ. Защита изваяний божеств составляла особую заботу жрецов, она поддерживала в этих статуях их предполагаемую эффективность и составляла сущность ежедневного ритуала. Убранство храма играло одновременно нормативную, информационную и заменяющую текст роль, указывая на идеальную структуру священного культа, напоминая о своем мифическом происхождении и рассеивая человеческое недоверие через полные целомудренного содержания картины.
Справление ежедневной ритуальной службы было далеко не единственным занятием, которое оживляло египетские храмы. Существовало огромное количество праздников, переполнявших религиозный календарь. В действительности частота праздников варьировалась в зависимости от храма. Так, в Эсне, в Верхнем Египте, ежегодно насчитывался 91 праздник,{142} а в северном Фаюме, в храме Диме, это число достигало 153.{143} Праздники были поводом для объединения местного духовенства, верховного жреца и пастофоров. Но в особенности эти празднества собирали светских служащих, приходивших, чтобы увидеть богов, которых они могли наблюдать в миниатюрных часовнях из позолоченного дерева, выставленных в ритуальных лодках, обвешанных эмблемами и покоящихся на плечах жрецов, шедших в бесконечной процессии. Если установленный порядок процессии уже был зафиксирован сложившейся вековой традицией, то новые теологические идеи старались вдвойне усилить общественное рвение, которое всегда сопровождало такие процессии. Так, явление богов в образе священных животных заняло привилегированное положение среди других торжественных празднеств за счет привлекательности и эмоциональности, которые вызывали у верноподданных эти одушевленные божьи ипостаси, нежели неподвижные деревянные фигуры. Так каждый храм либо содержал своих собственных животных, среди которых был один единственный, взлелеянный экземпляр, олицетворявший собой Бога (такими были быки Апис, Мневис и Бухис), либо разводил крокодилов, кошек или ибисов.
Священные животные
Из всех странностей египетской религии, описанных греческими и латинскими авторами, самым непонятным и более всего высмеиваемым является, бесспорно, культ млекопитающих, рептилий или птиц, так как помимо божественной сущности, которую они должны были олицетворять, еще и сами животные вызывали интерес верующих. Жрецы усматривали в животных видимое и ощутимое присутствие божественной власти, каково бы ни было конкретное тождество этого присутствия. С другой стороны, такое почитание воплощало два явно противоречащих друг другу аспекта. Если верующие представляли, что животное может быть рассмотрено как живое олицетворение бога или богини, то трудно понять, почему шкура мертвого животного могла пробуждать еще больший интерес. Так, культ быка Аписа больше известен нам по грандиозным похоронам, так как в них принимало участие такое количество людей, которое никогда не видел храм при жизни бога. Что касается животных, почитаемых в своей совокупности, как, например, ибисы Тота, кошки Баст или крокодилы Собека, то изучение мумий, найденных тысячами в некрополях, показывает, что большое количество этих бедных животных было сознательно убито еще в незрелом возрасте. Такое утверждение, казалось бы, противоречит известному рассказу Диодора, в котором он повествует о грустной судьбе одного из римских жителей, современника Птолемея Авлета. Этот римлянин был разорван разъяренной толпой, так как случайно убил кошку в тот момент, когда царь добивался расположения Рима.{144} По сути, это умерщвление могло позволить каждому паломнику совершать похороны животного и, таким образом, искупить грехи и совершить ритуал перед божеством. Участие в похоронах священного животного было актом божественного почитания, во время которого верующий мог надеяться на божественную благодать. Мертвое животное, надлежащим образом мумифицированное и захороненное, оказывалось более полезным и выгодным своим верноподданным, чем его мяукающая или хрюкающая копия на заднем дворе храма. Так священные животные Египта, за которыми ухаживали после их смерти более, чем за живыми, разделяли судьбу своих верующих.
В некоторых случаях настоящая причина посещения того или иного храма крылась скорее в любопытстве, нежели в подлинном почитании бога. Иногда именно интерес толкал паломников в храмы. Без сомнения, этим объясняется частое посещение паломниками храмов, почитавших крокодила как священное животное. Таких храмов было достаточно много в Фаюме, где существовал культ Собека. Римские «паломники» стремились туда, по свидетельству Страбона, чтобы поприсутствовать на трапезе отвратительного ящера, которую жрецы превратили в настоящее зрелище.{145} Но с того момента, как одна из этих рептилий умирала, всеми находящимися в храме завладевали искренние эмоции, и приготовления к похоронам занимали одновременно все умы, чему свидетельствует ответ на настоятельную просьбу жрецов храма Диме, заботящихся об организации отправки одной из священных шкур в ее последнее пристанище. Этот документ датирован началом 132 года. В нем говорится: «Получив ваше письмо, мы приняли во внимание всю важность приготовлений, которые бог пробудил в наших сердцах, касаемо места последнего покоя великого бога Осириса (= мертвый крокодил). Вы [нам] написали о том, что лодка уже причалила к пристани. Мы передали эту новость жрецам [некрополя]. Они повелели вести лодку со священным крокодилом на озеро в оговоренное место до того, как будет готов шатер для бальзамирования. Дайте нам знать, если будете в чем-нибудь нуждаться».{146}
За эпистолярным формализмом прослеживается скрупулезное следование всем правилам, касающимся их забот по умершему телу бога.
Престиж жрецов
Если определить роль жреца как привилегированного посредника между людьми и богами, то в этом случае существует только один единственный жрец в Египте, которого изображали в храмах во время совершения ритуалов жертвоприношения — царь Верхнего и Нижнего Египта, сын Ра, Птолемей, возможно, сопровождаемый царицей Клеопатрой. Естественно, речь идет о фикции настолько, насколько греки могли игнорировать сложные ритуалы местной религии. Таким образом, египетские жрецы, настоящие наследники тысячелетней традиции, брали на себя заботы о поддержании хрупкого равновесия в мире, кропотливо соблюдая все предписания, связанные с укреплением божественной воли.
Жрецы не образовывали социально единого класса. Существовало огромное количество категорий жрецов, их численная важность была пропорциональна большому количеству мест культа, начиная от простой часовни, в которой прислуживал всего лишь один служитель, до огромного храма, с внутренней иерархией персонала. Большинство жрецов совмещало сразу несколько священных чинов в одном или нескольких храмах, и каждому их этих чинов соответствовал свой доход, подчас очень скромный для многочисленного низшего жречества. Эти звания теоретически были в распоряжении царя, который мог поручать церковные обязанности тому или иному жрецу по собственному усмотрению, но в действительности же эти должности покупались. Они могли передаваться по наследству или быть проданы третьим лицам. В случае передачи новый владелец платил государству специальный налог. С другой стороны, нужно было соответствовать условиям поступления в класс священнослужителей. Иными словами, жрецом мог стать только тот, кто обладал некоторым уровнем образования, был обрезан, соблюдал определенное количество физических и моральных заповедей и, естественно, принадлежал к семье жрецов. Так что можно говорить о существовании настоящей священной «касты» в Египте.
Организация египетских храмов была таковой, что чисто религиозные обязанности занимали только ограниченную часть расписания жрецов. На самом деле, в каждом храме было в среднем по пять сообществ (триб) жрецов (по египетски «са», по гречески «фил»), каждое из которых по очереди совершало священную службу в течение лунного месяца. Традиционно этих сообществ было четыре, но Канопский декрет от 238 года добавил пятое, в честь правящих царей Птолемея III и Береники II, богов Эвергетов, что было сделано для уменьшения периода службы жрецов. Так у них появлялось время для других занятий. «Чистые» (уабы) должны были ограждать себя от некоторых занятий, которые могли навлечь позор или «грязь». Например, они не могли себе позволить заниматься коммерцией, сельским хозяйством и ремеслом. В конечном счете, жрецы играли важную роль в социальной жизни страны в области законодательства, образования и культуры.
Птолемеи оставили жрецам разработку египетского законодательства, регулирующую отношения между коренными египтянами, восходящую к законодателям Саисской эпохи: царям Бокхорису и Амасису. Это жрецы, составившие на демотическом языке множество контрактов по продаже, выдаче ссуд, разделению имущества, заключению браков, благодаря чему местное население управлялось со своим движимым и недвижимым имуществом. Эти жрецы составляли суд лаокритов и разрешали спорные вопросы, следуя букве закона.
В области образования и культуры традиционно храмы представляли собой настоящую монополию в обучении египетскому языку (иероглифика и демотическое письмо), а также во всех видах эрудиции и науки фараонов от светской литературы до медицины и толкования снов. Таким образом, египетский храм принадлежал местной культуре, тогда как греческие гимнасии — культуре иноземной власти, оба эти мира составляли два антагонистичных полюса, которые определяли единую цивилизацию Египта эпохи Лагидов.
Почитание богов за пределами храмов
Храмы не монополизировали духовную жизнь современников Клеопатры. Множество археологических документов подтверждают, что в кругу каждой семьи не забывали о богах. Большое количество бронзовых и терракотовых статуэток, найденных в домах, свидетельствует о ежедневном обращении к богам. Ниши, устроенные в стенах, были часто обставлены предметами культа. Иногда они представляли собой картины на деревянных панно, служившие для поддержания этого домашнего моления, которые выглядели как истинные предшественники христианской иконы. Рядом с духами покровителями дома, например, карликом Бэсом, преследователем злых духов, можно было встретить божеств совсем другого масштаба: Сараписа, известного в своем эллинистическом обличье, но еще чаще Исиду, чья популярность постоянно росла, особенно во время превращения Египта в римскую провинцию. Эта богиня перенесла в Птолемеевскую эпоху конкуренцию с Кибеллой, чьи рьяные последователи распространяли экстатический культ там, где собиралось больше всего греков. Но очень быстро Исида утратила свои экзотические атрибуты и приняла форму более универсальную — всевластной богини, спасительницы, чьи десять тысяч имен свидетельствуют о распространении ее власти. Будучи кормилицей Хора, Исида становилась матерью богов и защитницей страдающего человечества. Ей посвящались самые большие храмы. Один из них находится на юге страны в Филе, другой на самом севере в Бехбейт-эль-Хагаре, но истинный храм понемногу выстраивался в сердцах всех жителей Египта, прежде чем ее образ достиг Рима, правда, под другим именем, но с той же миссией утешительницы, которая смогла избежать гибели во время краха греко-римской культуры и дожить до наших дней.
За пределами семьи религиозность выражалась также в создании профессиональных и частных организаций. Подобные объединения также хорошо были известны в классической Греции, как и в Египте фараонов. Эти две традиции, взаимодействуя в птолемеевском Египте, стали характерной чертой социальной жизни в городах и деревнях. Часто они объединяли людей, занимающихся одной профессией, как это произошло в 110 году с хоахитами из Фив, но иногда собирали вместе знатных граждан и мелких местных торговцев, чьим единственным связующим звеном было общее верование в одно и то же божество. Некоторые из подобных ассоциаций получали официальное содействие властей, как, например, верующие бога Диониса — фиасы. Культ фиасов распространился в конце III века под влиянием Птолемея IV Филопатора, чья любовь к богу вина была очень хорошо известна. У нас также имеется текст одного эдикта, адресованного посвященным в дионисийские тайны, которые играли главенствующую роль в этих ассоциациях. Постановление предписывало фиасам явиться и зарегистрироваться в Александрии, для того чтобы власть могла проконтролировать законность их тайных обрядов.{147} Ясно, что согласие с фиасами было проявлением верности режиму. Однако в некоторых случаях единственной религиозной обязанностью членов ассоциации оказывалось совершение жертвоприношения и жертвенного возлияния вина в честь царя и царицы, как, например, это было в синоде Зевса Хипсиста («высочайшего»), который находился в Филадельфии, в Фаюме. Собрание в храме Зевса составляло единственное свидетельство почитания бога покровителя.{148} Ежемесячные религиозные ассамблеи могли происходить в храме, на паперти, в месте, специально отведенном для этих собраний или даже в частном доме. Поводом всегда были застолья с надлежащим количеством вина. Другой обязанностью (по-видимому, менее светской) было обязательное присутствие различных высокопоставленных лиц на всевозможных праздниках и процессиях богов, а также участие на похоронах священных животных. Наконец, существовала обязательная взаимопомощь. Также высокопоставленные чиновники обязаны были соблюдать правила хорошего тона, за нарушения которых накладывался штраф. Существовала помощь больным, нуждающимся и находящимся в заключении собратьям. И тем более они обязаны были присутствовать на похоронах в случае чьей-либо кончины. Известно, что в Египте выполнение этой последней обязанности было достаточно тяжелым, и неудивительно, что многие старались ее избежать, откуда и происходит суровость наказания в случае внезапного отказа исполнить эту важную обязанность.{149}
Греческие священнослужители
В трех греческих городах Египта официальные священные культы приближались к эллинистическим или эллинизируемым, постепенно вбирая в себя традиции античного мира. В хоре, где греческих храмов было достаточно много, этот процесс наиболее очевиден. Священные здания устанавливались в честь богов Олимпа и царственных обожествленных особ. В одной из деревень Фаюма, например, была найдена запись о храмах, посвященных Зевсу, Деметре и Диоскурам.{150} Совершаемые ритуалы не требовали от священников такого же четкого соблюдения всех правил, как то было необходимо в египетской традиции.
В греческих городах духовный сан ничем не отличался от любого другого, его мог получить каждый житель города на длительное или ограниченное время. В Александрии и Птолемаиде самые «престижные» из духовных постов, которые занимали в первую очередь священнослужители Александрии и цари Лагиды, были посвящены дионисийскому культу. Священные чины разрастались в течение III и II веков, достигнув в итоге восьми должностей в Александрии и тринадцати — в Птолемаиде.{151} Жрецы, приобретавшие наиболее важные священные титулы, сменяли друг друга каждый год, другие же оставались на занимаемом ими посту в течение многих лет или даже на протяжении всей жизни. Что касается почетных духовных званий, которые могли быть пожалованы только членам великих фамилий этих двух городов, то в обязанности их обладателей входило участие в процессиях, устраивавшихся в честь обожествленных царей или цариц. Официальные титулы многочисленных жриц дают в первую очередь представление о том, какие священные предметы они проносили в процессии: канефора (носительница золотой корзины), афлофора (носительница трофеев), стефанефора (носительница короны), фосфора (носительница факела). Самой большой привилегией среди духовных санов оставалась эпонимия, то есть упоминание того или иного жреца в официальных и частных архивах вместе с именами царя и царицы. На самом деле это правило все менее и менее соблюдалось, и к концу II века ни жрецы, ни жрицы — эпонимы — уже не упоминаются ни в одном документе. Также не упоминали и последних жрецов, хотя они существовали до конца династии, как о том свидетельствуют несколько разбросанных по документам упоминаний, самое позднее из которых датируется шестью месяцами раньше смерти последней Клеопатры.{152}
Экономика храмов
Египетские храмы являлись не только священной обителью, где жрецы выполняли свои ученые ритуалы, но и центрами экономической деятельности. В действительности, египетский культ был занятием очень дорогостоящим, которое нуждалось в постоянном и регулярном пополнении священных даров. Расходы на самые скромные нужды, начиная с хлеба и заканчивая жертвенным быком, корма для священных животных, ткань для одежды божественных статуй и жрецов, масло для освещения храмов, мази и благовония, топливо для огненных жертвоприношений, дерево и металл для оснащения процессий и для отделки здания, не считая жалованья самих жрецов и обслуживающего персонала, следящего за порядком в святилище, — все это лишь небольшая часть тех расходов, которые непосредственно были связаны с отправлением культа. В эпоху фараонов цари посвящали богам обширные территории, которые должны были приносить обитателям храмов все, в чем последние нуждались. Эти царские дары, осуществляемые в течение многих лет и подтверждаемые с каждой сменой правителя, окончательно установили власть храмов над большими территориями, подтверждением чему являются огромные участки земли, принадлежащие храмам в Филе, Мемфисе и Гелиополе, описание которых было составлено в большом папирусе Хариса I в конце Нового Царства.
В условиях проводимой политики экономического господства над страной Птолемеи решили сократить автономию местных храмов. Не будучи теоретически конфискованными, священные земли (по крайней мере, по большей своей части) изымались у администрации храмов и передавались царским крестьянам. Государство оставляло святилищам в качестве уплаты ренты, называемой синтаксис, часть производимой на их землях продукции. Однако на практике она составляла мизерную часть от того, что могли бы получить жрецы, напрямую распоряжаясь землей. Но в случае крайней необходимости некоторые земли все же уступались храмам. Жрецы отдавали возделывать сравнительно небольшие участки храмовым крестьянам-рабам, которые на деле являлись частными землевладельцами, платившими жрецам фиксированный годовой налог. Священнослужители также получали доход с повышенного налога на фруктовые сады и виноградники, принадлежащие частным владельцам. Этот налог, названный апомойра, был назначен Птолемеем II для поддержания культа своей божественной супруги Арсинои Филадельфии, который в обязательном порядке отправлялся во всех египетских храмах. Доход с налога, назначенного государством на ведение ритуала и распределенный по храмам, зависел от частоты свершения «акта преданности» местных жрецов по отношению к царской династии.
Иногда ремесленная или индустриальная деятельность напрямую зависела от храма, например, выработка виссона (так как использование любой другой ткани было запрещено богами и жрецами). Что касается производства, которое принадлежало царской монополии, как, например, выдавливание масла, то храмы имели право производить только небольшое количество этого продукта, необходимого для личного пользования. В распоряжении храмов также часто находились стада мелкого рогатого скота, например, баранов, овец и коз, о которых заботились храмовые пастухи-рабы.
Наконец, большое число доходов приносили святилищам дары паломников и верующих, пришедших молиться о заступничестве. Богатые «прихожане» иногда жертвовали богам земли (в основном, фруктовые сады и виноградники).
Оракулы и клятвы
В птолемеевскую эпоху в небольших городах и деревнях храмы выполняли, помимо экономической, важную социальную роль. Именно в храмы приходили вопрошать оракулы. Все важные решения частной или семейной жизни принимались, по большей части, после консультации с божеством через посредничество жрецов. Таким же образом могли решаться мелкие спорные вопросы между частными лицами, если обе враждующие стороны были согласны прибегнуть к такому способу разрешения конфликта. Сама процедура обращения к оракулу варьировалась в зависимости от специализации храма. Процесс вопрошания мог происходить либо в специально отведенном для этого месте у главного входа, либо же в соседнем помещении. Каждая из сторон записывала свою версию на отдельных листах папируса, которые жрец преподносил либо статуе, либо священному животному, и только один из папирусов, совпадавший с выбором божества, возвращался жрецу-посреднику.{153} Подобным же образом клятва, принесенная богу или богине, уже сама по себе служила гарантией собственной правоты.
Многие споры между частными лицами разрешались именно таким образом. Например, в деле о мелкой краже, исключая, естественно, очевидные преступления, обвиняемый мог снять с себя подозрения, публично отрицая перед дверями храма любое участие в воровстве. Прежде чем подозреваемый торжественно произносил текст, клятва тщательно записывалась жрецом на папирусе или на глиняной табличке. Клятвопреступление, если оно было доказано, могло привести преступника к страшным последствиям. Количество найденных клятв свидетельствует о популярности такого способа решения проблем, так как он позволял избегать долгих и ненадежных процедур.{154}
Странные рабы
О наиболее загадочной форме вмешательства храма в общественную жизнь свидетельствует серия найденных в Тебтинисе папирусов, написанных на демотическом языке. Однако можно предположить, что подобные документы существуют и в других местах. Судя по тексту папируса, человек объявляет себя рабом местного бога, связывая клятвой свое потомство на 99 лет. Такое «рабство» кажется скорее теоретическим, нежели реальным, ибо единственная оговариваемая обязанность такого раба — это ежемесячная выплата определенной суммы (которая, по правде говоря, была очень скромной) богу. Со своей стороны божество охраняло своего «подданного» от зла, причиненного потусторонними темными силами — фантомами, заблудшими мертвыми душами, демонами или другими злыми духами.
Это «рабство» казалось на первый взгляд не чем иным, как средством сбережения себя от дурного глаза, однако социальный статус претендентов на такую частную услугу был строго определен: чаще всего к ней прибегали люди, рожденные от неизвестных отцов, еще чаще те, что «рождались на территории (храма)». Таким образом, должна была существовать прямая связь между храмом и вышеуказанными людьми, таинственное единение, которое крылось в их рождении. Подобные договоры направлялись на утверждение властям как официальное подтверждение этих связей. Речь могла идти либо о подкинутых на территорию святилища малышах, либо о детях, рожденных проститутками, к которым терпимо относились в храмовых областях. В этом случае добровольное рабство не имело никаких других мотивов, кроме получения человеком компенсации в течение долгого времени от, так сказать, общественной службы помощи, роль которой выполнял храм. Однако все эти примеры недостаточны для окончательных выводов, и можно предположить, что многие действительно искали духовной защиты от темных сил и смертельных болезней.{155}
Боги Мемфиса{156}
При определении и описании социальных форм благочестия в античных религиях чаще всего от нас ускользает человеческий фактор, а вместе с ним религиозное сознание и внутренний мир отдельной личности. В лучшем случае мы сталкиваемся с условной разработкой, которая скорее извратит, нежели продемонстрирует действительные религиозные чувства человека. Исключительно редко совокупность документов позволяет нам увидеть связь между реальной и духовной жизнью (даже если последняя появляется только в филигранной обработке) как возможный двигатель индивидуального выбора. Случайно открытые в мемфисском некрополе в начале века архивы Птолемайоса, сына Главка, составляют одну из тех редких возможностей проникновения в беспокойное сознание обычных людей — без титулов и без великих помыслов — чьи глубокие мотивы исходят из простого требования материального выживания и социального признания.
Мемфис, второй город в Египте после Александрии и настоящая столица этнического населения страны, был главным религиозным центром, куда стекались огромные толпы паломников как из долины, так и из дельты Нила, в поисках мистического опыта или же в надежде получить исцеление от физических или духовных недугов. Богом Мемфиса являлся не традиционный защитник старого города, который был предметом лихорадочного ожидания, не демиург, следивший внутри своего наоса за утверждением на престолах царей и за местными ремеслами. Не тот великий Птах, которого греки из-за схожего покровительства ремеслам отождествляли с Гефестом. И не божественные спутники Птаха привлекали верующих — вроде богини-львицы Сохмет, несмотря на приписываемую ей власть над болезнями, или ее сына — Нефертума, носящего венок из лотосов. Уже давно и тесно связанная с политическими и социальными условиями теология древних богов не могла вызвать должного почитания, которое к тому времени постепенно меняло основу, отталкиваясь от индивидуального отношения человека к богу-спасителю. Эти новые требования могли в конечном счете удовлетворяться другими проявлениями божественной власти, более близкими и ощутимыми.
Среди них в первую очередь выделяется культ бога Быка Аписа. Этот культ был одним из самых древних религиозных институтов в Египте. Поначалу поклонение богу Апису было тесно связано с поклонением богу Птаху, но в конечном счете они отошли друг от друга и начиная с эпохи Нового царства разделились на два отличных друг от друга течения. Живой Апис — символ плодородия и процветания Египта — вел тихую жизнь в своем священном стойле в Мемфисе вместе со своей матерью, которая была воплощением Исиды, со своим гаремом и многочисленным потомством. Мертвый Апис, воплощавший Осириса, похороненный со всеми почестями среди плача собравшейся толпы, становился всемогущим хтоническим божеством, управляющим подземным миром. Над некрополем, в пустыне к северо-западу от великой гробницы старого фараона Джосера, растянулись огромные руины великого Серапеума, где умершие быки принимали почитателей своего культа. Это был мумифицированный Апис (Осирис-Апис), который у мемфисских греков получил название Сарапис задолго до прихода Александра. Они отождествляли это божество со своим собственным богом потустороннего мира Гадесом, наделив его способностью предвидения. Этот Сарапис стал, по решению Птолемея I, официальным богом Александрии, и с тех пор его культ распространился по всему Средиземноморью.
Интересно, что целый священный зверинец присоединился к Апису, почитаемый целым рядом храмов и погребаемый в их собственных склепах, будь то храмы кошек Баст, собак Анубиса, ибисов или бабуинов Тота-Гермеса, соколов и т. д. Таким образом, Серапеум оказывался только центром огромного священного города, построенного среди пирамид, а также разрушенных некрополей царей и высокопоставленных лиц Древнего царства. Массивные здания египетского стиля соседствовали здесь с колоннадами и статуями в лучших традициях эллинистической культуры, что было лучшим примером, свидетельствующем о бикультурном характере божественных обрядов.
Жизнь и сны отшельника Птолемайоса{157}
Старший из четырех сыновей военного невысокого звания армии Александра Македонского, Птолемайос родился примерно в 200 году до нашей эры в одной из деревень нома Гераклеополя, там, где оазис Фаюма открывается на долину Нила и где у его отца был надел, дарованный царем. Мы ничего не знаем о раннем детстве и юности Птолемайоса, кроме того, что он получил достаточно хорошее образование, чтобы писать на греческом, но несовершенное, чтобы писать на нем скоро и без ошибок. К 30 годам он решил уйти от мирской жизни и поселиться отшельником рядом с великим Серапеумом в Мемфисе, а точнее, в ризнице (пастофорионе) небольшого храма, посвященного Астарте (Астартейон).
По крайней мере в течение двадцати лет Птолемайос оставался в этом храме, по всей видимости, соблюдая затворнический образ жизни. Неизвестно, распространялся ли такой режим затворничества на весь Серапеум или ограничивался скромным жилищем Птолемайоса. Такое отшельничество было, вне всякого сомнения, добровольным, но ни в одном документе Птолемайос не приводит четких причин, толкнувших его на этот поступок, так что нам остается только гадать, были ли тому материальные или мистические объяснения. Первые могут быть оправданы теми подробностями, которые приводит Птолемайос о средствах своего существования. Мы знаем, что храм давал ему месячный рацион крупы, а его положение позволяло Птолемайосу заниматься приносящими некоторый доход делами и мелкой незаконной торговлей. Но в итоге, учитывая, что он не мог осуществлять коммерческие сделки без посторонней помощи, денег все равно не хватало. Такой уровень жизни был не особо притягательным даже с некоторой — очень относительной! — гарантией безопасности, компенсирующей абсолютное лишение свободы, тем более что решение об отшельничестве он принял без какого бы то ни было давления. Таким образом, можно допустить, что Птолемайосом управляло некое божественное вдохновение, которое привело его к добровольному затворничеству.
Многочисленные жалобы и прошения, поданные отшельником различным высокопоставленным лицам (если те не были адресованы непосредственно царю Птолемею или царице Клеопатре), позволяют нам составить достаточно подробное представление о жизни Птолемайоса и его близких. Более того, нам стали доступны самые сокровенные уголки его души, так как Птолемайос тщательно записывал свои сны, которые будоражили по ночам его самого, а также его соратников по затворничеству. За два тысячелетия до рождения Фрейда сны рассматривались не как замаскированные проявления бессознательного, а как демонстрация божественной власти, как послания, полные либо надежды, либо предостережений и угроз. Вера в то, что сны раскрывают божественное намерение, была еще с давнейших времен распространена и у греков, так как выражение — «и сны от Зевса бывают» — мы находим уже у Гомера. Египтяне придавали огромное значение ночным видениям с тех пор, как великого царя Тутмоса IV, отдыхавшего у ног Сфинкса, посетил необыкновенный сон, повелевавший ему очистить величественную статую от песка. Форма послания не всегда была настолько ясной, так что каждая библиотека храма должна была содержать работы по толкованию снов, настоящие «Сонники», чье содержание позволяло некоторым специалистам, интерпретируя сны, расшифровывать странные божественные послания.{158}
Не всякий сон в равной мере мог быть послан богами, и внешние условия играли здесь одну из важнейших ролей. Бог мог приходить во снах к своим верноподданным только в том случае, если те находились в священном месте. Так было с Импхотепом (Имутесом), действительно существовавшим министром царя Джосера и архитектором ступенчатой пирамиды, которая возвышалась поблизости от Серапеума. Этот великий человек был причислен к богам и стал покровителем писцов, искусства и науки, в особенности медицины. Греки быстро узрели в нем тождество своему собственному богу врачевания Асклепию. Именно в Асклепионе больные и их родственники подавали прошение, дабы переночевать там и увидеть сон о прописанных самим богом лекарствах. Такая практика терапевтической инкубации, известная в других храмах греческой цивилизации, получила распространение и среди храмов мемфисского некрополя.
Сны в архивах Птолемайоса, записанные на греческом и демотическом языках, не всегда носили священно-целебный характер. Они также касаются и других забот, начиная от личностных разочарований и жизненного кризиса и заканчивая самыми мелкими хлопотами. Естественно, в этой путанице между причиной и следствием, что было почвой для всех суеверий, Птолемайос видел в них не проявление собственных треволнений, а напротив, вмешательство высших сил. По крайней мере, один раз он увидел предостерегающий сон общего смысла. Так как храм Птаха в Мемфисе был жилищем Аписа, храм Атума-Ра в соседнем городе Гелиополе («Город Солнца») приютил другого священного быка по имени Мневис. Этот бык умер семнадцатого декабря 159 года, и жрецы вынуждены были искать молодое животное на его место. Такой поиск мог оказаться долгим и трудным, ибо многочисленные правила отбора были очень суровы. Полгода спустя бык все еще не был найден, что лишь усиливало тревоги жрецов. Второго июня 158 года Птолемайоса посетил такой сон: «Мне показалось, что я долго призывал великого бога Амона, чтобы он пришел ко мне с севера, в своем триединстве. Наконец он появился; мне показалось, что там же находилась корова и что она была беременна. Он обхватил корову и уложил ее на землю. Он погрузил свою руку в ее живот и достал оттуда быка».{159}
Опознание бога, принимающего роды (Амон из Дельты?), могло обозначать место, где должен был явиться новый Мневис. Без сомнения, именно такие откровения, если они совпадали с действительностью, приносили увидевшему подобный сон огромную славу. В то же самое время некий жрец из Себенитоса, по имени Хор, часто видел вещие сны, связанные с политикой. Что касается Птолемайоса, то его одолевали личные муки.
Желанные девы
Но что это были за причины, которые настолько беспокоили Птолемайоса? Дело в том, что Птолемайос не был одинок, множество других отшельников также проживало на территории Серапеума. В частности, там обитал Гарма (на египетском Хоремхеп), местный житель, который разделял помещение с Птолемайосом. Но были и те, которые намного больше тревожили отшельника, по крайней мере в период 154–158 годов, это были девушки-близнецы, которых звали Таус и Фоес. История жизни этих двух девушек началась как мелкое дело криминального адюльтера. Их мать, Нефориса, увлеклась греческим солдатом по имени Филипп, сын Согенеса, и, желая сочетаться с ним законным браком, она убедила его использовать талант дуэлянта против своего мужа, отца двойняшек, но супруг смог убежать, спрыгнув с крыши дома в реку. Вплавь он добрался до острова, на котором его встретили друзья и сопроводили в Гераклеополь, но там он вскоре умер от горя. В это время Нефориса завладела всем имуществом своего супруга и без колебаний выгнала из дома, а также лишила наследства своих троих дочерей, которых прижила от этого брака. Девушки — старшая сестра Тафелиса и двойняшки Таус и Фоес — остались без средств к существованию и нашли прибежище в Серапеуме. В это же время, в апреле 164 года, в почтенном возрасте двадцати двух лет скончался священный бык Апис.
Сложные ритуалы и церемонии, которые должны были последовать за этим событием в течение семидесяти дней бальзамирования, требовали присутствия молодых людей, способных исполнять роли различных божеств, принимающих участие в похоронах Осириса, с которым отождествлялся покойный бык Апис. Среди множества ролей главными были роль Исиды, вдовы бога, и ее сестры Нефтиды. Тот факт, что сестры были близнецами и девственницами, дал им право играть такие ответственные роли. Они исполнили их очень хорошо, так как храм продолжал их приглашать для свершения жертвенных возлияний вина во время церемоний культа Осириса-Аписа, а также на исполнение тех же ролей шесть лет спустя во время похорон Мневиса, священного бога Гелиополя. Несмотря на выполнение таких значимых и прибыльных обязанностей, девушки находились еще в очень уязвимом положении. Их сводный брат Пахрат, сын от первого материнского брака, смог заполучить их деньги, скопленные на заготовках масла, которые составляли важную часть их жалованья.
Неспособные защитить себя, тем более что они не знали греческого, девушки обратились за покровительством к Птолемайосу, написавшему впоследствии большое количество петиций в их пользу. Такая самоотверженность отшельника была, естественно, наполовину искренней, наполовину корыстной. Законное жалованье двух сестер пропорционально важности выполняемой ими ритуальной задачи было несравнимо с той скромной рентой, которую храм выплачивал Птолемайосу. Таким образом, он мог вполне законно надеяться на небольшой доход в обмен на свои услуги. То участие, которое Птолемайос принимал в судьбе девушек и в особенности сны, в которых они ему являлись, показывают, что такого объяснения недостаточно. Птолемайос действительно был убежден, что забота о Таус и Фоес была ниспосланной на него божественной миссией. Эту миссию открыл ему сам бог Сарапис в одном из снов. Такое видение своей роли в жизни девушек входило в конфликт с его личными сексуальными потребностями, которые влекли его хотя бы к одной из сестер, а вынужденное воздержание лишь усиливало это влечение. Переживания, испытанные в снах, были тщательно им записаны:
«Мне показалось, что я видел Фоес весело поющей нежным голосом, и я видел Таус смеющейся. Ноги ее были чистыми и длинными».
«Двое мужчин работали внутри храма. Таус села на ступеньки и шутила с ними, но, заслышав голос Хемтосну, она моментально почернела. Они сказали, что они ее обучат <…>».{160}
Прист – что это такое?
Прист – происходит от английского слова priest, что переводится как священник или жрец. Что такое прист? Это класс персонажа в игре, чья деятельность основывается на использовании магии.
В игре существует несколько типов пристов, условно их можно подразделить на следующие категории.
1. Саппорт. Наиболее желаемый для любого отряда или рейда вариант, задача этого типа – лечить или усиливать пати. Исходя из этого, основные навыки приста-саппорта:
- хилящие;
- баффающие;
- воскрешающие;
- дающие бабл и щиты;
- снимающие скилы контроля или дающие иммунитет.
2. Мощные дебафферы. Наносят не слишком много урона, однако, прилично ослабляют противника. Могут иметь небольшое количество скилов контроля. В числе их дебаффов:
- уменьшающие защиту и снижающие максимум хп;
- ослабляющие атаку, сопротивление различным ударам и стихиям;
- не позволяющие врагам лечить;
- станящие, кидающие сон или молчание.
3. Дамагеры. Урон не меньше, чем у других атакующих классов, в их арсенале:
- усиленные массовые удары;
- одиночные ДоТ-атаки;
- обычные атаки.
К первым относятся присты света, а ко вторым и третьим – тьмы. В играх могут встречаться также жрецы различных стихий, например, воды или огня. Но по способу сражения они больше напоминают магов. Каст заклинаний (за исключением лечащих) зачастую очень медленный.
В качестве оружия жреца могут выступать следующие предметы: скипетр, посох, жезл, книга, веер, булава или другое дробящие оружие в комплекте со щитом. Одеваются обычно в лёгкую (часто тканую) экипировку, однако, непрочность своего одеяния они полностью компенсируют защитными баффами.
Жрецов третьего типа прокачивают так же, как и дд, а вот для первых двух выбирают максимально увеличивающие выживаемость характеристики:
- здоровье и защиту;
- выносливость;
- уклонение или ловкость;
- увеличение мощности хила.
Прист в игре зачастую выполняет роль лечащего персонажа, и когда его ищут для пати, рассчитывают, что он будет выполнять именно эту роль.
Примеры
«У нас в пати есть один прист, второго не нужно»
«Этот прист отлично хилит»
«Возьмите еще одного приста в рейд»
Что такое священник? Что делают священники? — Архиепископия Санта-Фе
Зачем быть священником?
Каждый, кто хочет быть верным себе, ищет смысл и удовлетворение в своей жизни. Для христианина смысл жизни всегда так или иначе связан со служением Богу. Многие люди находят смысл и счастье в своей жизни, а также служат Богу в призвании брака. Есть много одиноких людей, которые часто благодаря своей гибкости могут служить Богу и быть счастливыми разными способами.Но многие юноши, хотя и видят себя служащими Богу в браке или в незамужнем призвании, тем не менее, все же ощущают иное служение и образ жизни, предлагаемый им как рукоположенным священникам. Вместо брачных обетов даются обеты послушания и безбрачия, поскольку священство — это особый способ служения Божьему народу, возможность быть и братом, и, что более важно, «отцом» каждому, кому служат.
Чем занимается священник?
Основная работа священника — провозглашать Слово Божье.Теперь это можно сделать несколькими способами. Священнику приходится тратить время на подготовку, а затем на совершение Таинств — Евхаристии, Примирения, Крещения, Отпевания, Венчания, Таинства Больных. Часть каждого дня следует отводить для молитвы, тем более что делиться плодами молитвы, будь то проповеди или поучения, является важным аспектом работы священника. Священник много посещает, будь то больные в больницах или домах престарелых, или семьи в их общинах со всеми разнообразными мероприятиями, связанными с семейной жизнью.
Работа с различными приходскими и соседскими организациями также является составной частью жизни священника. Главный дар епархиального священника своему народу — это возможность быть доступным, иметь возможность проводить время со своим народом. Таким образом, священник также будет участвовать в жизни людей, у которых есть особые потребности или проблемы, такие как брак, наркотики, проблемы родителей и детей, депрессия или жизнь в целом. Епархиальный священник считается лидером своего народа как в социальных, так и в духовных делах.Как и любой другой, священник также должен планировать время для физических упражнений, отдыха, отпуска, хобби и других приятных занятий.
Кто такой епархиальный священник?
Другое название епархиального священника — просто приходской священник. Слово «епархия» происходит от греческого слова, означающего «ведение домашнего хозяйства». Епархиальный священник – это священник, участвующий в повседневной жизни людей в конкретном приходе. Приходской священник может быть пастором, руководителем прихода или помощником пастора, который помогает пастору в повседневных обязанностях по управлению приходом, как административных, так и сакраментальных.
В чем разница между религиозным священником и епархиальным священником?
Религиозный священник является членом определенного религиозного ордена или общества. Религиозный священник дает обет бедности, а также обеты безбрачия и послушания. Обычно он живет с рядом других священников или братьев своей религиозной общины. Его служение Церкви может выходить за пределы прихода, и он может быть направлен в любую точку мира, где действует его религиозная община.
С другой стороны, епархиальный священник обычно служит в пределах епархии, для которой он был рукоположен. Он дает обязательство непосредственно своему епископу. Ему не нужно давать обет бедности, вместо этого ему дается жалованье, из которого он может позаботиться о своих личных потребностях.
Что такое священник? | GotQuestions.org
Ответ
Священник — это служитель любой религии, истинной или ложной, доброй или злой, которому дано право обучать священной информации и выполнять священные обязанности по сохранению и передаче этой веры другим.
Жрецы обычно служат представителями между людьми и высшей силой, существом или группой существ. Жрецы являются посредниками между людьми и духами, божествами, богами или Богом. Они учат надлежащему благоговению, благодарности, хвале, жертвенному даянию, поклонению и образу жизни, которые определяют веру. Во многих религиях наиболее важной ролью священника является роль посредника и заступника, возносящего молитвы и жертвоприношения от имени верующих, чтобы добиться прощения и благосклонности божества в этой жизни, а в загробной жизни — вечного блаженства.
Христианство во многом отличается от всех других религий, включая священство. Вот два наиболее важных отличия христианского священства от священства других религий: 1. Во многих религиях верующие не имеют прямого взаимодействия или влияния со своим богом; жрецы — единственный способ добраться до далекого божества. Но христианам не нужно проходить через земного священника, чтобы достичь Бога Отца. Скорее, у всех нас есть прямой доступ к Нему через нашего воскресшего Первосвященника на небесах, Иисуса Христа (Евреям 8–9).Христос — единственный путь к Богу Отцу (Иоанна 14:6; Деяния 4:12). В результате христиане могут молиться непосредственно Богу обо всех своих нуждах и желаниях (Матфея 7:7–11; Иоанна 16:23–26).
2. Библия учит, что все христиане являются священниками; христианская церковь на самом деле является царством священников (1 Петра 2:5, 9; Откровение 1:6). В Ветхом Завете священники избирались из колена левитов и отделялись от остального Израиля. Исход 28–29 и Левит 8 описывают основные священнические обязанности левитов.Эти священники служили в храме, где Ковчег Завета покоился в комнате, называемой Святая Святых, которая была закрыта для всех, кроме первосвященника, большой, тяжелой, богато украшенной занавесью. Кровью жертвенных быков окропляли Престол Ковчега Милосердия, чтобы искупить грехи людей. Но когда Иисуса распяли, завеса разошлась сверху донизу (Матфея 27:51), показывая, что теперь все верующие имеют прямой доступ к Божьему присутствию. Мы приближаемся к Богу через веру в кровь Его Сына, а не в кровь животных.Благодаря жертве Иисуса «мы имеем уверенность войти во Святое Святых с кровью Иисуса, новым и живым путем, открытым для нас через завесу, то есть через Его тело» (Евреям 10:19–20).
Смерть Иисуса положила конец ветхозаветному священству, заменив бесконечные жертвоприношения животных одной окончательной, совершенной жертвой за грехи всего мира. Теперь прощение предлагается бесплатно всем, кто верит в воскресшего Господа Иисуса Христа как в нашу жертву за грех (Иоанна 3:16–17; Римлянам 3:23–25; 10:9–10).Это евангельская весть — благая весть, — которую мы, христиане, разделяем как «священники» Царства Божьего.
В чем разница между священниками и левитами?
Ответ
Левиты были коленом израильтян, происходящим от Левия, одного из двенадцати сыновей Иакова. Священники Израиля представляли собой группу квалифицированных мужчин из колена левитов, которые несли ответственность за аспекты поклонения в скинии или храме. Все священники должны были быть левитами, согласно Закону, но не все левиты были священниками.
Священники существовали до левитов в общем смысле. Например, мы впервые видим роль священника в Бытие 14:18 во времена Авраама, задолго до рождения Левия. Мелхиседек был царем города Салима, который впоследствии стал Иерусалимом. Мелхиседек также был назван «священником навеки» (Псалом 110:4; ср. Евреям 6:20; 7:17). У языческих народов также были священники для их религиозной деятельности. Иофор, тесть Моисея, был священником Мадиама (Исход 3:1; 18:1).
Когда евреи получили Закон Моисея на Синае, Господь дал повеления относительно формального священства для Израиля.Священники должны были быть мужчинами из колена Левия и должны соответствовать определенным физическим и возрастным требованиям, чтобы служить. Кроме того, они должны были оставаться церемониально чистыми, чтобы выполнять свои обязанности перед святым Богом. Священники служили посредниками между израильтянами и Богом. Именно они совершали жертвоприношения животных от имени народа. Только священникам было позволено входить в святилище в скинии, а затем и в храме. Более подробное описание левитского священства можно найти в нашей статье «Что такое левитское священство?»
Среди этих левитских священников был первосвященник.Первым первосвященником был Аарон, брат Моисея. Его сыновья и их потомки должны были служить будущими первосвященниками народа Израиля (Исход 29). Только первосвященнику разрешалось входить во Святое Святых в скинии и храме, и то только один раз в году, в День Искупления. Более подробное описание работы первосвященника можно найти в нашей статье «Какова была библейская роль первосвященника?»
Ездра, один из вождей иудеев, вернувшихся из Вавилона, был священником-левитом (Неем. 12:1).Захария и Елизавета, родители Иоанна Крестителя, оба были левитами, потомками Аарона (см. от Луки 1:5). Захария был священником, но его сын Иоанн, тоже левит, был пророком, а не священником.
Ко времени земного служения Иисуса иудейское священство обладало большой духовной и политической властью. Фактически, иудейские первосвященники участвовали в приговоре Иисуса к смерти.
После воскресения Иисуса верующие теперь живут по новому завету, в котором все христиане являются священниками: «Но вы — народ избранный, царственное священство, народ святой, удел Божий, дабы возвещать Ему славу призвавшего вас из тьмы в чудный Свой свет» (1 Петра 2:9).Нам больше не нужен земной посредник между нами и Богом, потому что Иисус принес последнюю жертву за нас и действует как наш Посредник (Евреям 10:19–23; 1 Тимофею 2:5).
Еврейская роль первосвященника теперь исполняется Иисусом, который служит нашим первосвященником. Жертва Иисуса положила конец нашей потребности в постоянных жертвах. Святой Дух направляет и советует нам.
Левитское священство было частью ветхозаветной системы жертвоприношений. Оно исполнилось в Иисусе, и теперь мы находимся под новым заветом.Больше нет библейского мандата для священников. Каждый последователь Христа имеет доступ к Богу, независимо от пола, расы или племени (Евреям 7:11–28; Ефесянам 3:11–12; Колоссянам 3:11).
Что Библия говорит об исповеди священнику?
Ответ
Концепция исповедания греха перед священником нигде не преподается в Писании. Во-первых, Новый Завет не учит, что в Новом Завете должны быть священники. Вместо этого Новый Завет учит, что все верующие являются священниками.1 Петра 2:5-9 описывает верующих как «святое священство» и «царственное священство». В Откровении 1:6 и 5:10 верующие описываются как «царство священников». В Ветхом Завете верующие должны были обращаться к Богу через священников. Жрецы были посредниками между людьми и Богом. Жрецы приносили жертвы Богу от имени народа. Это больше не нужно. Благодаря жертве Иисуса мы теперь можем смело приближаться к Божьему престолу (Евреям 4:16). Завеса в храме, разорвавшаяся надвое после смерти Иисуса, символизировала разрушение разделяющей стены между Богом и человечеством.Мы можем приблизиться к Богу напрямую, сами, без использования человеческого посредника. Почему? Потому что Иисус Христос — наш великий Первосвященник (Евреям 4:14-15; 10:21) и единственный посредник между нами и Богом (1 Тимофею 2:5). Новый Завет учит, что должны быть пресвитеры (1 Тимофею 3:1-7; Титу 1:6-9), дьяконы (1 Тимофею 3:8-13) и пастыри (Ефесянам 4:11), но не священники. .
Когда дело доходит до исповедания греха, в 1 Иоанна 1:9 верующим сказано исповедоваться в своих грехах перед Богом. Бог верен и просто прощает наши грехи, когда мы исповедуем их Ему.В Иакова 5:16 говорится об исповедании наших проступков «друг перед другом», но это не то же самое, что исповедовать грехи перед священником, как учит Римско-католическая церковь. Священники/руководители церкви нигде не упоминаются в контексте Иакова 5:16. Кроме того, Иакова 5:16 не связывает прощение грехов с исповеданием грехов «друг перед другом».
Римско-католическая церковь основывает свою практику исповеди перед священником прежде всего на католической традиции. Католики действительно указывают на Иоанна 20:23: «Если вы простите кому его грехи, они прощены; если вы не простите их, они не будут прощены.Из этого стиха католики утверждают, что Бог дал апостолам власть прощать грехи и эта власть передавалась преемникам апостолов, т. е. епископам и священникам Римско-католической церкви. Есть несколько проблем с этой интерпретацией. (1) Иоанна 20:23 нигде не упоминается исповедание греха. (2) Иоанна 20:23 нигде не обещается и даже не намекается, что апостольская власть любого рода будет передана преемникам апостолов. (3) Апостолы ни разу в Новом Завете не действовали так, как будто они имеют власть прощать грехи человека.Точно так же католики указывают на Матфея 16:19 и 18:18 (связывание и разрешение) как на свидетельство власти католической церкви прощать грехи. Те же три вышеуказанных пункта в равной степени применимы и к этим местам Писания.
Способность прощать грехи принадлежит Богу и только Ему одному (Исайя 43:25). Лучшее понимание Иоанна 20:23 заключается в том, что на апостолов была возложена обязанность провозглашать с предельной уверенностью условия, на которых Бог прощает грехи. Когда церковь была основана, апостолы провозгласили, что те, кто поверил Евангелию, были прощены (Деяния 16:31), а те, кто не повиновался Евангелию, предстанут перед судом (2 Фессалоникийцам 1:8; 1 Петра 4:17).Когда апостолы провозглашали спасение во Христе (Деяния 10:43) и применяли церковную дисциплину (1 Коринфянам 5:4–5), они пользовались властью, данной им Христом.
Опять же, в Писании нигде не говорится о исповедании греха перед священником. Мы должны исповедоваться в своих грехах перед Богом (1 Иоанна 1:9). Как новозаветные верующие, мы не нуждаемся в посредниках между нами и Богом. Мы можем идти к Богу напрямую благодаря жертве Иисуса за нас. В Первом Тимофею 2:5 говорится: «Ибо один Бог и один посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус.
Что такое католический священник?
Священник – это крещеный человек, принявший Таинство Священства. Через это таинство человек входит в служебное священство , которое дает ему священную силу служить ( CCC 1592). служебное священство дается для служения обычному священству; весь народ Божий призван участвовать в общем священстве ( CCC 1546-1547).Священник — это « средство, которым Христос непрестанно созидает и ведет Свою Церковь»; поэтому миссия католического священника — «напитать Церковь словом и благодатью Божией» ( LG , 11). Таким образом, священник является посредником или «строителем моста» между Богом и человечеством; он делает это, участвуя в едином священстве Иисуса Христа, который объединяет Бога и человечество в самом своем существе. Священник осуществляет это «наведение мостов» посредством обучения, богослужения и руководства людьми ( CCC 1592).
Священник предлагает нам сегодня служение Иисуса Христа. Когда священник приносит святую жертву Мессы, жертву приносит Христос. Когда он отпускает грехи в Таинстве Примирения, это Христос прощает. Когда он участвует в миссии Церкви по обучению и евангелизации, через него говорит Христос. Когда он предлагает любовь, утешение и поддержку Божьему народу, Христос действительно присутствует с ними. По этой причине святой Иоанн Вианней объяснял священство в следующих терминах: «Священник продолжает дело искупления на земле… Если бы мы действительно поняли священника на земле, мы бы умерли не от страха, а от любви… Священник есть любовь к сердце Иисуса» (CCC 1589)
Архиепископ Энтони Фишер OP, епископ Тони Рандаццо, епископ Терри Брэди, епископ Ричард Амберс и ректор семинарии Доброго Пастыря, о.Дэнни Мигер с новорукоположенным священником о. Мэтью Мигер, август 2018 г.
Фото Джованни Портелли
В чем разница между пастором и священником?
Если вы хотите начать христианское служение, вам могут быть интересны различия между пастором и священником. Хотя люди иногда используют эти два термина как синонимы, существуют различия в том, как обычно используются и понимаются титулы пастора и священника. Знание различий полезно, если вы думаете о том, чтобы стать христианским лидером.
Различия в названиях
Специальное использование титула пастора предназначено для лидеров протестантских или неконфессиональных церквей. Неконфессиональные церкви не являются частью какой-либо из основных христианских конфессий, таких как католическая, баптистская, лютеранская или методистская церкви.
Возможно, вы уже знаете, что титул пастора связан со словами «пастырский» и «пастбище». В качестве титула христианского лидера пастор означает того, кто пастырь или направляет общину, обеспечивая их духовное воспитание.С конца 1800-х годов это слово даже использовалось как глагол. Например, христианский служитель может сказать, что он «пастор» церкви или собрания. Пасторы также могут использовать титулы священника или преподобного.
Слово «священник» происходит от греческого слова «пресвитерос» и латинского слова «пресвитер». Титул священника по существу означает старейшина. Священник относится к пастору или служителю, который служит в католической или греческой православной традиции. Англиканцы, связанные как с исторической католической церковью, так и с реформаторской традицией, также используют слово священник.
Священник служит в исторической христианской традиции, которая делает упор на литургическое богослужение. Эта традиция включает в себя акцент на совершении Евхаристии или мессы. Это не так просто, как сказать, что протестантские христианские лидеры общины называются пасторами, а англиканские, православные и католические лидеры называются священниками, но это часть различия. Хотя священника можно назвать пастором, в общем смысле этого термина пасторов никогда не называют священниками из-за разных ролей пасторов и священников в церкви.
Другие отличия
Протестантские пасторы не обязаны соблюдать целомудрие, а некоторые протестантские деноминации посвящают женщин в пастыри. Посвящение женщин в пастыри зависит от истории и практики конкретной деноминации. Образовательные требования также могут различаться в зависимости от конфессии. Большинство давних традиций, включая исторические литургические церкви и основные протестантские церкви, требуют обучения в семинарии и строгого процесса рукоположения.
Некоторым небольшим протестантским и неконфессиональным церквям, особенно основанным на более свободной и менее иерархической структуре, семинария может не потребоваться.Тем не менее, всем кандидатам рекомендуется посещать Библейский колледж. Вы также услышите в некоторых протестантских церквях термин «пастор-мирянин». Пастор-мирянин — это человек, который не рукоположен, но выполняет пастырскую роль в церковном собрании.
Священники в греческой православной и римско-католической традициях должны быть мужчинами. Католические священники должны соблюдать целомудрие, хотя греческие православные священники могут жениться до рукоположения. Англиканские священники могут жениться и могут быть как мужчинами, так и женщинами в рамках американских ветвей традиции.
Обучение и образование, чтобы стать пастором
Пастор протестантской или неконфессиональной церкви имеет множество обязанностей помимо написания и чтения проповедей и проведения церковных служб. Многие обязанности пастора включают в себя:
• Проведение крещений, свадеб и похорон
• Консультирование прихожан в трудную минуту
• Организация общественных мероприятий
• Работа с новыми членами
• Работа с общественными лидерами в частном и государственном секторах
• Надзор церковный бизнес и финансы
Люди чувствуют особое призвание служить пастором.Им необходимо иметь глубокое знание Библии и принципов своей деноминации. Кандидаты должны поговорить с пастором или своей церковью, чтобы выразить свою заинтересованность в том, чтобы стать пастором. Кандидат встретится с церковным комитетом, чтобы рассмотреть его опыт и квалификацию. Кандидат должен иметь хорошую репутацию в церкви.
После того, как комитет примет решение о том, что кандидат может продвигаться вперед, ему нужно будет начать обучение в колледже и завершить программу получения степени в частном религиозном колледже или университете.Некоторые церкви требуют, чтобы потенциальный кандидат в пастыри получил степень магистра богословия. Помимо прохождения курсов в колледже, к потенциальным кандидатам на пасторство может предъявляться несколько других требований. К ним относятся:
• Прохождение стажировки
• Посещение семинаров
• Сдача различных экзаменов
• Работа с наставником
Отдельные церкви и различные христианские конфессии предъявляют разные требования к тому, чтобы стать пастором. Прежде чем потенциальный кандидат в пастыри отправится в это путешествие, он должен знать особые требования своей церкви и деноминации.Пастор не должен быть рукоположен, чтобы руководить церковью. Тем не менее, рекомендуется рукоположение, особенно для пасторов в более крупных протестантских и неконфессиональных церквях.
Обучение и образование, чтобы стать священником
Становление священником обычно начинается в семье, где ребенок проходит через процесс проницательности, молясь о помощи в принятии решения. Ребенок проходит через процесс различения с помощью семьи и священника. Присоединение к священству – это непростое решение, и зачастую это многолетний процесс.
Священство предназначено только для крещеных, конфирмованных и практикующих католиков, желающих служить Богу и Его народу. Священники не могут жениться, были разведены, считать себя членами сообщества ЛГБТК или были исключены из другой программы подготовки священников.
Священник призван пасти стадо, возвещать слово Божие, учить вере, совершать таинства и быть управителем церкви. Диплом колледжа или университета обычно не требуется, но все потенциальные кандидаты в священство должны посещать семинарию и получать ее степень.Мужчины должны пройти процесс отбора, и церковь должна выбрать их в качестве кандидатов на священство. Есть общие требования, чтобы стать священником. Некоторые из этих требований включают:
• Хорошее физическое здоровье, эмоциональное равновесие и зрелость.
• Глубокая молитва и религиозная жизнь.
• Признание нуждающихся и готовность помочь им.
• Принадлежность к католической вере не менее двух лет
Каждая епархия или католический округ, находящийся под опекой епископа, имеет разные требования для получения священства.Перед началом процесса каждый кандидат должен изучить требования к священству в своей епархии.
Различия в одежде
Стиль одежды – еще одна важная область различия между пастырями и священниками. Пасторы менее связаны одним набором правил в отношении того, как одеваться. Из-за различных конфессий в некатолическом христианстве существуют заметные различия в том, что пасторы носят во время богослужений. В некоторых отдельных церквях и христианских конфессиях пастор регулярно носит мантию с различными церковными символами.Во многих случаях пасторы будут носить повседневную одежду, такую как костюм, спортивный пиджак, галстук, классические брюки и классические туфли.
Тем не менее, другие пасторы носят джинсы, футболки, сандалии и делают татуировки. Эти непринужденные правила в отношении одежды привели к многочисленным спорам о надлежащей одежде пасторов. Основные христианские конфессии и крупные неконфессиональные церкви более строги в отношении правил дресс-кода, чем небольшие неконфессиональные церкви.
Священники имеют строгий стандарт в католической традиции носить ряд символических слоев.Нарамник, риза, пояс, епитрахиль и риза являются основными священническими облачениями, и каждое из них имеет жизненно важное значение для церкви. Вот что обозначают эти облачения:
• Нарамник – Нарамник представляет собой белый кусок ткани прямоугольной формы, свисающий с шеи и спускающийся по спине к талии. Символизирует защиту от дьявола умеренность в речи.
• Альб – Альб представляет собой длинную белую верхнюю одежду, которая идет от шеи до лодыжек и имеет длинные рукава, доходящие до запястий.Альб символизирует чистое сердце, которое священник должен принести к алтарю.
• Пояс – Пояс похож на пояс для альба. Это длинный толстый шнур, который завязывается вокруг талии и имеет кисточки на каждом конце. Пояс символизирует добродетель чистоты.
• Палантин – Палантин представляет собой длинную ткань шириной четыре дюйма, которую носят как шарф и закрепляют поясом. Он олицетворяет силу и авторитет священников.
• Ритуна – Эта верхняя одежда надевается поверх накидки и палантина. Риза похожа на длинное пальто, которое покрывает все тело и символизирует добродетель милосердия.
Цвет священнических облачений также имеет символическое значение. Литургические цвета и их значение включают:
• Зеленый – представляет обычное время в литургическом календаре и означает надежду.
• Красный – представляет Пятидесятницу, Святой Дух и праздники апостолов и мучеников. Красный означает кровь Христа и огонь милосердия.
• Желтый – используется во время различных праздников литургического календаря и означает славу, радость, невинность и чистоту души.
• Розовый – Используется в третье воскресенье Адвента и четвертое воскресенье Великого поста. Розовый символизирует любовь и радость.
• Фиолетовый — используется во время Адвента, Великого поста и во время заупокойных месс. Фиолетовый символизирует смирение и покаяние.
Различия в иерархических эпицентрах
Еще одним интересным различием между пастырями, священниками и связанными с ними церковными органами является иерархический эпицентр. В протестантских деноминациях христианства нет централизованного центра административной или организационной функции.Каждая деноминация обычно имеет руководство и организационные структуры, уникальные для этой деноминации. Пастырские и священнические организации в большинстве случаев не взаимодействуют друг с другом, за исключением случаев, когда возникают взаимные общехристианские проблемы.
В католицизме абсолютным эпицентром церковной организации и управления является Ватикан. Здесь Папа и королевские, святые постройки и территории составляют резиденцию церкви. В католической церкви существует шесть уровней иерархии.Эти уровни:
• Дьякон – это мужчины, которые находятся на заключительном этапе подготовки священства и могут выполнять некоторые обязанности действующих священников.
• Священники. Успешные дьяконы могут стать священниками после прохождения Обряда посвящения, который посвящает их в священство.
• Епископ – Священники могут стать епископами, если им исполнилось 35 лет, они рукоположены на срок не менее пяти лет и имеют степень доктора богословия. Епископы должны иметь большой опыт в области канонического права и священного писания.
• Архиепископ – следующий уровень – это архиепископы, которые наблюдают за архиепископией, которая представляет собой группу епархий и управляет епископами в этом регионе.
• Кардинал – около 130 кардиналов. Кардиналы наблюдают за епископами. Их самая важная роль — голосовать за нового папу.
• Папа – Папа является главой Римско-католической церкви во всем мире.
Как видите, в католицизме гораздо больше структуры и традиционных практик, чем в протестантских и внеконфессиональных христианских традициях.
Ассоциированные профессиональные организации
Во всех иерархических ассоциациях пастырские и священнические профессиональные организации также обычно не взаимодействуют друг с другом на регулярной оперативной основе. Поэтому и священники, и пастыри предписывают своим отдельным профессиональным ассоциациям и организациям. Ниже представлены некоторые из наиболее важных из этих организаций как для священников, так и для пасторов.
Организации священниковАссоциация католических священников — ведущая организация, объединяющая всех участвующих священников в очень ценную, наполненную ресурсами сеть других священников и католических компонентов.
Ассоциация католических священников США — еще одна крупная представительная сила католицизма и высшего духовенства, которая обеспечивает сеть, ресурсы, актуальные новости, ссылки на важные события и многое другое.
Пасторские организацииНациональная ассоциация христианских служителей является ведущей группой, обслуживающей большую пастырскую общину в Соединенных Штатах. Здесь участники и другие пользователи могут найти широкий спектр ресурсов, информационные контакты, новости и многое другое.
Американская Пасторская Сеть представляет собой еще одну прекрасную и очень авторитетную организацию для всего пастырского мира. Эта группа предоставляет большой опыт работы в сети, видео- и радиопродукты, свежие новости и многое другое. Все медиа-программы с веб-сайта также могут быть легко доступны в мобильном формате с помощью мобильного приложения «Stand In The Gap».
Хотя термины «пастор» и «священник» не полностью взаимозаменяемы, они связаны и оба относятся к христианским лидерам.В конечном счете, очень распространенные вопросы, касающиеся темы «пастор против священника», могут быть лучше всего поняты в контексте конкретной христианской традиции.
Связанные ресурсы:
Пастор Против. Священник: Какая разница?
Когда дело доходит до религии, все дело в семантике. Один из самых распространенных вопросов среди христиан: в чем разница между пастором и священником? Разгром между пастором и священником не является чем-то новым, и хотя среди населения в целом эти термины часто используются взаимозаменяемо, на самом деле они относятся к двум немного разным группам людей.Проще говоря, священник — это человек, который, скорее всего, проповедует католическую веру. Пастор — это тот, кто проповедует в любой другой христианской вере. Пасторов иногда называют священниками, а священников иногда называют пасторами, но суть спора заключается в том, в какой церкви находится их алтарь.
Пастор
Пастор — это просто рукоположенный лидер христианской церкви. Это могут быть мужчины или женщины, и они имеют право руководить службами, а также давать советы или советы людям в собрании.Слово пастор на самом деле латинское и означает пастух. Родственный латинский глагол pascere означает «вести на пастбище». В современных христианских церквях пастор или глава церкви — это пастырь, который ведет стадо (конгрегацию) на пастбище (спасение).
Пасторам было присвоено звание, основанное на библейской метафоре пастырства. В поручении Христа Петру через Рафаила Христос назначил Петра пастором и поручил ему пасти своих овец.
Пасторы наслаждаются полноценной семейной жизнью и могут жениться, если захотят.Женатые пасторы часто считаются более надежными и знающими, чем неженатые пасторы. У них могут быть биологические дети, и они, как правило, полностью интегрированы в общество.
Пасторы проходят формальное образование перед рукоположением. Это образование занимает примерно четыре года и может проходить или не проходить в формальной семинарии. Многие пасторы также имеют образование по другим нерелигиозным предметам и могут делать карьеру вне церкви.
Священник
Священник — религиозный лидер, посвящённый в определённую веру, прежде всего католицизм.Все священники мужчины. Священник считается посредником между людьми и Богом. Они имеют право проводить религиозные обряды и призваны на свое место высшей силой, а не внутренним желанием. Священники выполняют церковные службы, специальные церемонии и советы среди других обязанностей.
В католической вере должность священника является постоянной должностью. Человек, который жертвует своей жизнью в соответствии с призванием Бога, отказывается от возможности заняться другой карьерой.Они полностью посвящены своим церквям и не могут вступать в брак, за исключением женатых священнослужителей из англиканской общины, которые позже обратились. Это потому, что священники должны «жениться» на церкви. Из-за того, что священники не могут жениться в традиционном смысле, у них не будет детей, если только они не обратятся за рукоположением после смерти супруга.
Чтобы стать священником, нужно много лет и преданности. Типичный священник проводит около 10 лет в семинарии, взрослея и познавая веру.После окончания семинарии они помещаются в церковь и полностью посвящают свою жизнь своей вере. В конце дня священник уходит на пенсию в приходской дом. Из-за интенсивной подготовки, необходимой для того, чтобы стать священником, уровень ухода крайне низок.
Платье и литургические облачения
Поскольку имена священников и пастырей даются религиозным лидерам разных деноминаций, вполне разумно различать их одежду и литургические облачения.Вообще у священников гораздо более строгий дресс-код, чем у пасторов. В то время как пасторы некоторых христианских религий могут предпочесть придерживаться традиционного дресс-кода, некоторые современные пасторы приняли более повседневный стиль, чтобы лучше общаться со своими прихожанами. В католической вере одежда священника не подлежит обсуждению.
Поскольку пастор может быть мужчиной или женщиной, одежда мужчин и женщин также немного отличается. Некоторые предметы были адаптированы для использования женщинами, хотя женщины-пасторы в целом предпочитают гораздо более повседневный вид с меньшим количеством головных уборов, меньшего количества аксессуаров и более легких тканей.Пастор-мужчина и женщина-пастор одной и той же деноминации могут очень сильно отличаться друг от друга в одежде.
Нехватка священников
В США не хватает доступных священников. Есть много факторов, которые вызвали это, но считается, что движущими силами нехватки являются небольшие католические семьи, длительные периоды обучения и все более строгий процесс различения.